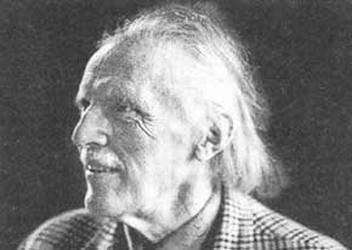
Джон Г. Беннетт
Книга выдающегося ученого, мистика и духовного учителя XX века Дж. Г. Беннетта является замечательным свидетельством безупречного поиска, обретения и реализации цели и смысла жизни. Поэтому она, в первую очередь, полезна для тех, кто сам ищет ответы на эти вопросы. Она также будет интересна и всем тем, кто дорос до понимания системы великого Г. И. Гурджиева, так как автор был самым гениальным его учеником, единственным, кто не только принял, но сохранил и развил его учение во всех направлениях. Много ценного найдут в книге поклонники гималайских и суфийских традиций, с выдающимися учителями которых взаимодействовал Беннетт. Особое значение она может иметь для практикующих латихан, так как Беннетт был выбран проводником Субуда на Запад, и именно его ученики стали первыми европейцами, начавшими практиковать латихан кеджаван.
Несмотря на автобиографичность работы, она, как и все другие книги автора, рассчитана на подготовленного читателя, являющегося не просто интеллектуалом, способным оценить красоту и изящество ментальных конструкций, но и имеющего свой, пусть может быть и небольшой, духовный опыт.
От редактора русского издания
Дорогой читатель, Вам очень повезло, Вы приобрели удивительную книгу, которая для человека ищущего, может стать поворотным моментом в жизни. Это история духовных поисков, предпринятых одним из самых выдающихся мыслителей и учителей XX века. Она не случайно названа “Свидетель”, так как, прожив долгую (1897-1974) и плодотворную жизнь, Дж.Г. Беннетт был свидетелем многих важных событий, духовных течений и судеб ведущих духовных учителей. Кроме этого, до последних дней, своей жизни, он сам практиковал разнообразные духовные техники и более 25 лет обучал им своих многочисленных учеников, так что эта книга – свидетельство об этом опыте и полученных результатах. Подобный опыт исключительно ценен для тех, кто пытается жить духовной жизнью, которая гораздо сложнее материальной, ибо протекает в сфере, девять десятых которой находится за пределами нашего обычного опыта. Именно поэтому, многим людям, вставшим на путь духовной трансформации, так необходима любая доступная помощь. К сожалению, нас окружают обычные люди, неспособные не только предоставить эту помощь или быть примерами такой трансформации, но часто даже неспособные просто понять или разделить с нами наши устремления. С другой стороны, сегодня исключительно трудно найти истинного духовного руководителя, понимающего как наши потребности, так и трудности нашей ситуации. Существуют, правда, жизнеописания святых, и книги отцов церкви, содержащие вдохновенные предписания и рекомендации. Но они, как правило, предназначены для монахов и отшельников, чьи пути существенно отличаются от путей людей, пытающихся вести духовную жизнъ в социуме, имеющих семью, ежедневно ходящих на работу и вовлеченных в разнообразные процессы, составляющие ткань нашего повседневного существования. Вот почему для нас так важен опыт духовной трансформации человека, нашего современника, жившего полноценной мирской жизнью и достигшего удивительных результатов. Здесь, правда, надо оговориться и сказать, что Дж. Г. Беннетт, конечно, был не простым человеком. Он был избранным, и его избранность была очевидной для многих как на Западе, так и на Востоке. Беннетт был исключительно одаренным и трудоспособным человеком, он обладал энциклопедическими знаниями, что сегодня представляется просто невозможным, владел более чем 10 языками, включая санскрит, турецкий и арабский. Он совмещал в себе многие духовные традиции, так как среди его учителей были не только гениальный Гурджиев, но и гималайский учитель Шивапури-баба, индонезийский Бапак Субух, суфийский мастер Сасан Шушуд и другие. Многие годы он возглавлял в Англии институт сравнительного изучения истории, философии и естественных наук.
Беннетт написал много книг, но самым выдающимся его творением является четырехтомный труд “Драматическая Вселенная”, который он создавал более пятидесяти лет. В нем впервые за всю историю человечества была построена адекватная картина мира, включающая как сферу факта, так и сферу ценностей, или духовную сферу. Значение творчества Беннетта трудно переоценить. Оно может быть сопоставимо лишь с влиянием, оказанным Аристотелем на свое время. И только в силу того, что Беннетт намного опередил свое время, мы сегодня не имеем еще никаких реакций на сделанное им, а его книги трудно найти даже на его родине, в Англии.
Хотя все работы Беннетта написаны исключительно точным и ясным языком, читать их достаточно трудно, так как это требует не только напряжения всех интеллектуальных сил, но и достаточно высокого уровня Бытия, или целостности. Неудивительно, что Беннетта никогда не переводили на русский язык, и русско-язычный читатель, даже хорошо знакомый с работами П.Д. Успенского, М. Николла, Л. Повеля, Дж. Фридландера, Р. Коллина и других учеников Гурджиева, ничего или почти ничего не знает о Беннетте. Мы считаем своим долгом восполнить этот пробел и познакомить российских читателей с кругом идей Дж. Беннетта, надеясь, что именно в нашей стране они будут востребованы наиболее полно. Благодаря титаническим усилиям наших замечательных переводчиков: М. П. Папуша, А. Л. Долгополъского, и С. А. Пылаевой при спонсорской поддержке П. П. Сапко и тяжелому труду по добыванию оригинальных текстов, проведенному Л.Ю. Трифоновым, которым мы выражаем свою огромную благодарность, мы имеем сегодня качественные переводы всех четырех томов “Драматической Вселенной” и других работ Беннетта, среди которых “Риск”, “Общины нового века”, “Учителя мудрости”, “Духовная психология”, “Секс” и другие.
Мы решили начать издание работ Беннетта с его автобиографической книги “Свидетель, или история поиска”, чтобы читатели сами могли оценить масштаб личности автора и погрузиться в удивительную атмосферу духовных исканий лучших представителей XX века. Книга написана очень увлекательно и читается “на одном дыхании”, особенно вторая ее часть, но все же основным ее достоинством безусловно является полезность.
Редактор перевода Долгополъский Л.Н. Москва, 20 декабря 1998 г.
Предисловие
Эта книга родилась благодаря убеждению, что важнейший долг человека -свидетельствовать о правде, той, что была ему открыта. Не каждый призван описывать свое видение правды в книге или вообще в словах. Лучшие свидетели те, чьи жизни показывают, что за внешней стороной Реальности лежит высшее Добро. Моя жизнь не такова, но я был свидетелем событий, убедивших меня в том, что наиболее важная и интересная часть Реальности скрыта от наших чувств и умов.
Первым моим побуждением было описать эти события вне связи с общим ходом моей жизни. Но вскоре я нашел это невозможным, поскольку зачастую величайшая важность внутреннего переживания распознается только в связи с обстоятельствами внешней жизни. Мне, таким образом, пришлось описывать свою жизнь в целом. Она начинается за 12 недель до 21-го по счету дня моего рождения. Детство и отрочество кажутся мне неважными, поскольку не содержат каких-либо особенных воспоминаний. Только во Франции, лицом к лицу со смертью, я увидел, что находится за смертью. С этого момента я и стал свидетелем. История не окончена; я написал ее вплоть до сегодняшнего дня.
Бог простит мне, если кому-то покажется, что видение, данное мне, не дано больше никому. Так случилось, что я был почти начисто лишен зрительного воображения, тогда как в последние годы я с изумлением обнаружил в себе эту способность. Однако, не видя, я чувствовал, поэтому мое свидетельство – это свидетельство слепого, который представил себе людей в виде движущихся деревьев и верит в это, даже если не понимает.
Задача жизнеописания выполнима только при условии предельной искренности автора. Уже очень давно я понял, что передать собственный опыт искренне невозможно. Никто не может устоять перед искушением приукрасить свою жизнь. Несомненно, не устоял и я. Однако, пытаясь быть максимально честным, я столкнулся со следующей трудностью: можно говорить о своих заблуждениях и ошибках, но указывать на ошибки других без их на то согласия – едва ли. Если я все же кого-то обидел – прошу меня простить. В нескольких случаях я скрыл или изменил имена, в других – упустил детали, которые могли бы дать повод ненужному осуждению. Моей целью было описание собственных поисков и последовательности стадий, через которые я пришел к своим настоящим убеждениям. Поэтому я включил в книгу эпизоды, сами по себе незначительные, но относящиеся к моей проблеме, и не упомянул о некоторых событиях, вероятно, представляющих общий интерес.
Мне чрезвычайно помогли друзья, которое буквально раскопали старые фотографии – особенно Бернард Рикатсон-Хэтт, несмотря на то, что выражения лиц Тазин-бея и Жака Бея Калдерона давно потеряли для них ценность. Попечители Tate Gallery не только снабдили меня фотографией роденовской головы Джона де Кэя, но, к моему восхищению, отыскали оригинал и выставили его на всеобщее обозрение. Работа Родена -великолепный вклад в портретное искусство, которым до сего времени могли насладиться лишь немногие ценители.
Другие мои друзья читали и критиковали, особенно Джун Сорэй-Куксон, Хью Хекстолл-Смит, Розамонд Лиман и профессор Е. А. Скаэф. Я так и не смог исправить все отмеченные ими недостатки, но если последние главы не испортили книгу – это их заслуга, а никак не моя.
Дж. Г. Беннетт
Кумб Спрингс
Кингстон-на Темзе
Март 1961 г.
Предисловие к американскому изданию
В первом издании этой книги мой жизненный поиск завершался годом 1961. Однако последние 12 лет принесли столько нового, что потребовался пересмотр описываемых событий, и я благодарен Omen Press за такую возможность. В это издание вошли четыре новые главы, которые содержат мои достижения к настоящему моменту. За прошедшее время я все больше обращался к ситуации в мире и к проблемам, ожидающим человека в будущем. В последнем томе «Драматической Вселенной», опубликованном в 1965 году, я доказывал, что мы находимся в преддверии Второго Пришествия Христа, которое означает конец существующего мира. Меня часто спрашивают, следует ли понимать это буквально, и если да, придерживаюсь ли я и теперь того же мнения. Ответом на оба вопроса является мое возросшее убеждение в том, что мы – очевидцы этого великого события. Нужно отделить факты от вымысла, образное представление реальных свидетельств от интерпретаций тысячелетней или двухтысячелетней давности. Факты свидетельствуют: старый мир распадается и исчезнет раньше конца этого века. Сила разрушения беспредельна, и противостоять ей можно лишь на незримых планах понимания и любви. Однако сейчас в мире несомненно присутствует и некое творческое противодействие нечеловеческой природы. Воздействия, проникающие в обычный человеческий опыт с этих духовных планов, присутствовали всегда, обнаруживаясь там, где их ждали и были к ним готовы. Сегодня противодействие растет; его чувствуют миллионы людей, в особенности, кто родился после последней мировой войны. Все, кого хотя бы наполовину коснулось осознание происходящей великой работы, ощущают необходимость принять в ней участие. Это и порождает вопросы и искания, присущие нашему времени.
Мы являемся свидетелями все ускоряющегося прогресса в науке и технологии. Каждое десятилетие наше знание удваивается. Новые открытия, такие как реактивность, атомная энергия, спутниковая связь, полностью изменили нашу жизнь за очень короткий срок со времен последней войны. На наших глазах стабильность цивилизации была поколеблена взрывами массового возмущения и угрозой повсеместной нехватки продовольствия. На наших глазах правительство и крупные корпорации становятся все более и более беспомощными, а власть сосредотачивается в руках маленьких деспотичных групп.
С каждым годом растет вероятность того, что мировая общественная структура будет сломана еще до конца нашего столетия. Мы должны быть готовы пережить времена всеобщего безумия, когда существующие ныне институты окажутся бессильными предотвратить надвигающиеся бедствия. Лишь их огромная инертность и устойчивость к изменениям позволят поддерживать привычный ход вещей в последующие 30-40 лет. Потом должна быть создана совершенно новая общественная система – не капитализм и не коммунизм, не национальная и не интернациональная, но состоящая из во многом самодостаточных поселений, обменивающихся опытом выживания. Большие города опустеют и будут заброшены. Национальные правительства заменятся агентствами, главной задачей которых останется распределение продовольствия. Жизнь упростится.
Три тысячи лет и даже больше мир жил экспансией и усложнением. Эта тенденция себя исчерпала. Вновь настанет время концентрации и упрощения. Достижения науки и технологии, имеющие реальную ценность, не будут забыты, но от всего, что несет угрозу разрушения, – частных автомобилей, массового производства механических и электрических приборов, не являющихся предметами первой необходимости, огромных средств на «образование» и «оборону» – придется отказаться. Кавычками я выделил два грандиозных мошенничества нашего времени: «образование», которое не учит, и «оборону», которая не защищает. Чрезвычайное упрощение жизни, возросшее вместе с ним человеческое счастье и благополучие придут тогда, когда жизнь будет основываться на принципе удовлетворения потребностей, а не стремления иметь больше, больше и еще больше.
Грядущие перемены не были бы столь драматичными, если бы люди могли правильно оценить сложившуюся в мире ситуацию. Мы не замечаем реальности и не столько из-за умышленного ее сокрытия, сколько из-за неумения видеть и мыслить достаточно широко. Мы наблюдаем повторяющиеся кризисы, за которыми следуют вдохновляющие моменты прогресса и благополучия. Общая тенденция к распаду, прослеживающаяся за период по крайней мере в сто лет, скрывается за падениями и взлетами политической и экономической активности.
Требуются люди, которые могут реально оценить ход событий и работать во имя будущего человечества. Человек, не имеющий цели, не в силах предотвратить катастрофу. Единственная надежда- в объединении с высшими силами, действующими согласно собственным законам и в свое время. Это Великая Работа, в которой призваны участвовать все, способные чувствовать, понимать и противостоять давлению мирового процесса. Настоящее обучение должно быть направлено на человека как он есть и на его телесные, умственные и духовные силы. Требуются люди, которые могут сознательно и решительно посвятить себя служению будущему.
В 1970 году я понял, что должен показать – такое обучение возможно. Пятьдесят лет поиска убедили меня: гурджиевский метод в его современном виде, дополненный из других источников, остается лучшей из имеющихся техник. В октябре 1971 года Международная Академия Непрерывного Образования начала свою работу, и к сегодняшнему дню завершен уже второй курс обучения. Результаты показывают, что метод работает с теми, кто может всего себя отдать нужным усилиям. Подробно я описываю это предприятие в последней главе.
Во всем мире люди готовятся к новому веку. Тысячи экспериментальных сообществ в городах и деревнях ищут новые подходы к жизни. Так, поиск 70-х сменил политическую активность 60-х. Другим отличием десятилетия стал рост массовых духовных движений, представляющих некий способ немедленного спасения. Иногда эти тенденции проявляются в виде духовных общин, живущих в апокалиптическом ожидании конца света. Есть также и множество реалистических «земных» поселений, чьей задачей является только выживание.
Все это дает некоторое, но неполное представление о новом обществе. Большинство подобных общин исчезнут в этом десятилетии. К 1985 году жизнь людей подвергнется новым испытаниям. Нужда придет к тем, кто никогда не бедствовал, а ныне власть имущие потеряют силу. Эти влияния складываются и усиливаются уже сейчас, однако пока они еще не коснулись со всей очевидностью и прямотой жизней людей. Время, когда это произойдет, будет временем великой перемены. Люди наконец-то серьезно займутся поиском другого способа жизни, и начнется новая эра.
Новые группы, общины, поселения, о которых я говорил, нужно создавать безотлагательно – ведь «другой» способ жизни должны увидеть все, иначе не удастся избежать многих страданий. Только человеку такое не по силам, но нельзя целиком полагаться и на слепую, бездумную веру в Провидение. Потребуется взаимодействие человека и духовных сил, более высоких и разумных, чем человек. Эти силы в действительности являются проявлением Христа в мире. Надо понимать, что духовные силы никогда не принуждают и не попирают волю человека. Человек будет спасен, если он даст себя спасти и сам будет участвовать в спасении. Потому я и называю грядущую эру эпохой синергизма. Высокомерие уступит место смирению, эгоизм – служению, экспансия ради экспансии – качеству, которое может дать только простота. Вот те идеи и подходы, которые изменят мир. Мы должны совершенно по-новому относиться к нашей матери-земле и всему живому на ней. Сегодня мы отравляем и разрушаем, нам нужно научиться лелеять и сохранять. Будущее зависит от тех, кто видит и может помочь увидеть другим. Старшее поколение, за редким исключением, слепо. Надежда сопутствует молодым, но и им следует отказаться от эгоистических мелочных целей и работать для будущего.
Глава 1
На волосок от смерти. Женитьба
Эта история моей жизни. Но начнется она не с рождения и детства и не с самых ранних моих воспоминаний. Реальное начало жизни пришло ко мне вместе с ощущением смерти, утром 21 марта 1918 года. Между пребыванием рядом со смертью и внутренним переживанием смерти очень большая разница. Несколько раз в жизни при различных обстоятельствах я узнал, что значит быть мертвым. Эта книга о связи между жизнью и смертью, мое понимание которой за последние сорок пять лет стало более ясным.
Каждое начало имеет свои истоки. Эта история началась ужасно холодным утром в начале марта 1918 года. Я спустился в меловые пещеры Рокса, оставляя позади окопную грязь и слякоть, грохот артиллерии, заградительный огонь и облавы, составляющие монотонную, очевидную рутину траншейной войны. Пещерная война не была ни скучной, ни очевидной. Пещеры Рокса тянулись на много миль из Франции в Бельгию, от нашей линии фронта глубоко в немецкий тыл. В темноте огни предвещали беду, и в их неверном свете, к которому медленно привыкали глаза сталагмит вдруг оказывался немецким солдатом; капли воды, падающие со сводов пещеры, можно было принять за постукивание кирки.
Не могу себе представить, сколько британских и немецких военных скрывались и подстерегали друг друга в этих пещерах. Я находился там со специальным заданием, которое я взял на себя из-за собственной слабости, всегда осложнявшей мою жизнь. Слабость моя состоит в том, что я добровольно беру на себя дела, к выполнению которых едва ли готов, и считаю необходимым возмещать недостаток умения и опыта особым рвением. В пещерах у нас был установлен недавно созданный аппарат, усиливающий слабые электрические токи, проходящие в земле и, таким образом, позволяющий подслушивать переговоры по полевым телефонам немцев. Для работы с этим аппаратом требовалось знание немецкого и представление о терминальных волнах. Я был гвардейским офицером связи, а аппарат находился в ведении армейской разведки и не имел ко мне никакого отношения. Но офицер разведки, возвращаясь с линии фронта, попал под заградительный огонь и был серьезно ранен, чуть не убит. Гвардейское дивизионное командование искало добровольца; тут вызвался я, хотя моего школьного знания немецкого вряд ли хватило бы для понимания переговоров противника.
Когда я достиг пещер, обратного пути уже не было, как не было и никого, кто бы мог управиться с аппаратом или понять немецкую речь. В это время поговаривали о готовящейся атаке немцев, поэтому любой ухваченный мной из неосторожного разговора намек мог спасти тысячи жизней. И вот я сидел в темноте, напряженно прислушиваясь, и время от времени загорался надеждой, улавливая обрывки разговора, которые могли значить много или ничего.
Время шло. Никто не явился сменить меня. Каждый час приходили связные и забирали сделанные мной записи. В это время внезапно изменилась частота радиовещания и я услышал сигналы S.O.S. Я был опытным радистом и смог проследить, откуда приходит сообщение, и понять, что произошло. В Северном море тонул корабль, который только что был торпедирован. Прошло более сорока лет, но и сейчас я ощущаю, как резкую боль, нашу разобщенность перед лицом смерти. Я находился здесь, под землей, в глубокой пещере, зная, что в любой момент свирепейшее сражение может унести мою жизнь и жизни сотен тысяч людей. А где-то там, далеко, корабль и его команда погружались в холодные воды Северного моря. Все, что нас связывало – это перспектива близкой смерти.
Неожиданно сигналы корабля прекратились, и я вновь вернулся к грубым невнятным голосам немецких офицеров. Потрясение придало мне сил, и я больше не хотел спать.
Потом я с изумлением узнал, что провел там две ночи и два дня, не сомкнув глаз и не прекращая слушать. Путь от пещер лежал позади высокой дамбы канала Марне и Ойзе к укрытию, где я спрятал свой мотоцикл. Только когда я взобрался на него, усталость одолела меня: я уснул прямо в седле мотоцикла и проснулся через несколько часов, весь в грязи, замерзший и ослабевший.
Вернувшись, я продолжал свою работу по обеспечению радиосвязи с линией фронта гвардейской дивизии до тех пор, пока тишина не была взорвана давно ожидаемым артиллерийским огнем, и началось великое наступление немцев. Я находился в странном состоянии, знакомом всем, кто испытывал страшную усталость. Голова болела ужасно, пугающе, но это приносило ощущение освобождения от ограничений обычного существования. При благоприятных обстоятельствах это состояние может перейти в состояние полной ясности, в котором обычная самость осознает присутствие сознания, высшего, чем ее собственное.
От этих последних дней, предшествующих началу истории моей жизни, у меня сохранилось еще одно живейшее впечатление. Однажды безлунной ночью мы с верным капралом Дженкинсом, который умел на практике все то, что я знал в теории, отправились выпрямлять антенну на неиспользуемом телеграфном столбе. Я прикрепил специальные стремена и полез наверх, стараясь как можно тише ставить ноги. Какой-то звук насторожил немцев, находящихся всего в полумили от нас, и свирепый оружейный огонь обрушился на землю подо мной. Капрал Дженкинс вжался в какую-то яму, я же не мог спуститься вниз, так как пули свистели как раз под моими ногами. Я чувствовал себя полностью отделенным от тела. Мне подумалось: «Как странно будет умереть, как Христос, вися на дереве». Не знаю, сколько продолжался обстрел, но как только мои руки стали уставать, он прекратился, и через пару минут я уже оказался на земле. Мы с капралом были потрясены, увидев друг друга живыми и невредимыми.
Через три дня я был ранен. Я потерял память о том, как это случилось. Я ехал на мотоцикле через Монши-ле-Прекс, почти убегая от ужасного огня немецкой артиллерии. Наступление началось утром, и к этому моменту все мои дела были выполнены. Последнее, что я помню, – это удивление: я совершенно не испытывал страха. Огонь был довольно силен, а безразличие бывалого солдата я еще не приобрел. Я говорил себе: «Если проберусь через Монши, все будет хорошо».
Потом я помню пробуждение- но не внутри, а во вне моего тела. Я знал, что умер. Я ничего не видел и не слышал, но воспринимал мое тело лежащим на белой кровати. Постепенно я осознал присутствие других людей, и каким-то образом я мог видеть то, что они видят и чувствовать то, что они чувствуют. Так, я понял, что в комнату вносят носилки, и для них уже не осталось места. Носилки стояли по обе стороны от моей кровати. Я знал, что там лежат раненые и умирающие люди, но не слышал ни звука. Я знал, что нас бомбят – не потому, что слышал взрывы, но так как ощущал шок, которым присутствующие вокруг меня люди реагировали на них.
Очень хорошо запомнился мне лежащий рядом мужчина. Я знал, что он был армейским священником и знал, что он боится смерти. Каким-то образом он застрял в своем теле, в то время как я был свободен от своего. Я подумал что-то вроде: «Как странно – священник и не догадывается, что ему ничего не сделается, когда его тело умрет!»
В этот момент мне было совершенно ясно, что быть мертвым – это совсем не то, что быть очень больным, слабым или беспомощным. Будучи не очень храбрым человеком, я бы, конечно, испугался сильного артиллерийского огня, но сейчас совсем не испытывал страха. Я отметил полнейшее безразличие к собственному телу.
Однако я не полностью потерял с ним связь. Мое тело взяли в операционную, и я отправился туда вместе с ним. Во время операции я, должно быть, был без сознания, и в самом деле, позже мне рассказали, что я находился шесть дней в коме. Но я слышал, как какой-то голос произнес: «Тонкие, пожалуйста». В ответ раздался женский голос: «Остались только грубые». Через несколько дней, когда я пришел в себя и с моей головы сняли бинты, няня сказала: «Хотела бы я знать, почему они использовали грубые нитки». Я ответил: «У них не осталось тонких». Она изумилась: «Откуда Вы знаете? Вы ведь были без сознания».
Наряду с подобными тривиальными воспоминаниями у меня осталось еще кое-что, не похожее на обычную память о прошедших событиях. Это было осознание того, что я пережил некоторый опыт, где все виды восприятия изменены, а физическое тело не нужно. Позднее я часто пытался восстановить ту уверенность, которая заставила меня сказать: «Если тело и будет разрушено, какое это имеет значение?», но не находил моста, по которому смог бы перейти из этого мира в тот. Смерть наилучшим образом соответствовала китайской поговорке: «Тот, кто не пробовал, не знает». Но я бы пошел дальше и сказал: «Кто не осознавал, что значит быть мертвым, тот не знает, что такое смерть». Мы можем сохранить в памяти почти любое переживание; но замечено, что те, кто пережил смерть, не могут восстановить ее ощущение.
Мы также забываем вкус рождения, но кажется естественным, что новорожденный ничего не помнит. Хотя он тоже знает, как это – не нуждаться в физическом теле, он не помнит это ощущение, пока здоров и крепко стоит на ногах того физического тела, которое сопровождает его в земной жизни. Я лично уверен, что рождение и смерть имеют много общего. То, что я пережил 21 марта 1918 года, было во многом рождением в смерти – хотя я еще долго не осознавал, что действительно умер и заново родился.
Через несколько недель на санитарном корабле меня привезли в Англию и поместили в первый главный военный госпиталь в Кембридже. Вскоре меня навестила мать. Она рассказала, что получила телеграмму, в которой говорилось, что я опасно ранен, но она не чувствовала, чтобы я умер. Правая сторона моего тела была частично парализована; у меня была тяжелое ранение головы, но череп не был поврежден. Я был нашпигован шрапнелью; некоторые ее кусочки оставались в моем теле еще долгие годы. Но по сравнению с большинством соседей по палате, перенесших тяжеленные хирургические операции, мне не о чем было волноваться. Постепенно функция правой руки и ноги восстановилась, и я вновь смог ходить. Но я сам не остался прежним. Юноша, уехавший в 1917 году из Англии, больше не жил в моем теле. Пока я еще продолжал жить его жизнью – жизнью незнакомца. Хотя я и помнил его мысли, но не разделял его чувств.
В Кембридже началась новая жизнь. Среди посетителей госпиталя был сэр Артур Шипли, магистр богословия и в будущем вице-канцлер Университета. Он спросил, не нужны ли мне какие-нибудь книги. Тут я обнаружил, что, хотя я и изменился, слабости мои остались прежними. Побуждаемый тщеславием или желанием выделиться, я попросил работы Бенедикта Кросе на итальянском. Шипли был потрясен моим неожиданным ответом и вскоре выхлопотал разрешение забрать меня из госпиталя в резиденцию магистров для выздоровления. Он представлял меня всюду как «раненого офицера, читающего Бенедикта Кросе по-итальянски». Поскольку мой итальянский сводился к нескольким фразам, мне приходилось обращаться к переводу ан ели, и должен признаться, что многого я не одолел.
Шипли был добрейшим человеком, и его глубоко огорчало полнейшее разрушение молодых людей моего поколения. Он возился с небольшой группой раненых офицеров, которых ему удалось собрать в резиденции и, видя мой искренний интерес к философии и математике, устроил мне встречи с известнейшими людьми в Кембридже. Так, я имел личную беседу с сэром Джозефом Томпсоном об электронах и относительности, с сэром Джозефом Лар-мором о тензорном исчислении, неожиданно ставшем знаменитым благодаря Эйнштейну, и в довершение всего с Дж. А. Хобсоном, садлерианским профессором математики, о геометрии высших измерений. Я уже начинал подозревать, что должна быть связь между геометрическим высшим пространством и бестелесным миром, о существовании которого я узнал 21 марта. Хобсон подбодрил меня, сказав, что теорема о ротации в пространстве пяти измерений, предложенная мной, может быть опубликована. Для молодого человека, влачившего свое существование в бедном лондонском предместье, это были волнующие времена.
Однажды за ланчем к нам присоединился генерал (позднее фельдмаршал) сэр Вильям Робертсон и генерал Сматс, прибывшие в Кембридж для получения почетных наград. Шипли привел их побеседовать со мной, и меня попросили рассказать об атаке немцев 21 марта. Я был потрясен их интересом к моему рассказу. Позднее я узнал, что Робертсон был смещен Ллойдом Джорджем, а Сматс разделил с ним эту незаслуженную немилость. Сматс приглашал навестить его, если я когда-нибудь окажусь в Южной Африке. Только через тридцать лет я воспользовался его приглашением.
Война все еще давала о себе знать. Мой преемник на посту дивизионного гвардейского офицера связи погиб через два дня после назначения, а, в свою очередь, его преемник был смертельно ранен в той же ужасной битве – последнем грандиозном усилии немцев. Смерть была слишком близко, чтобы забыть о ней. Передо мной встал новый вопрос. Почему я все еще жив? Погибло так много моих одноклассников и товарищей-кадетов. Почему не я?
От подобных ли мыслей, или от ранения, или от выздоровления, слишком стремительного для все еще ослабленного тела, мое состояние вновь ухудшилось, и я был отправлен в Крайглочартский военный госпиталь рядом с Эдин-буром. Там или в другом месте – я забыл – я начал ходить во сне и как-то пытался выпрыгнуть из окна. В этот момент я вновь пережил отделение от тела, которое прогуливалось и вело себя глупо – но причем же здесь я? Вскоре это состояние прошло, и мне разрешили поехать в Эдинбург и заняться немецким, который пришелся мне по душе. Учитель немецкого представил меня профессору Генри Бергсону, читающему лекции в Университете эмоций и ощущений, если я не ошибаюсь. Что-то в его словах показало мне, что он поймет мой опыт раздвоения. Он выслушал меня доброжелательно, но без внимания, и я понял, что его интересуют идеи, а не люди. Это была первая и в течение долгого времени единственная попытка рассказать о моих внутренних переживаниях.
В начале сентября 1918 года я вместе с другими выздоравливающими офицерами получил циркуляр военного ведомства, приглашающего слушателей на курсы турецкого и арабского. Несомненно, сотни офицеров откликнулись, предвкушая месяцы, проведенные в тылу вдали от военных действий. Я также послал документы, но с ясным убеждением, что мне необходимо ехать в Турцию. Время шло. Других офицеров приглашали в Лондон на собеседование. Что-то было не так. Я подозревал, что дело было в моей медицинской карте, запись в которой гласила: «К службе за рубежом не годен». Каким-то образом я уговорил коменданта срочно выдать мне другое медицинское свидетельство и помчался в Лондон. Должен заметить, что в это время меня не интересовали ни лингвистика, ни другие языки. Я гордился своими математическими способностями, и мои лингвистические изыскания сводились к немецким переговорам в меловых пещерах Рокса.
Я обратился в военное ведомство и узнал, что был отвергнут, но не по состоянию здоровья, а поскольку было много желающих со знанием турецкого или арабского языков. Тут внезапно моя слабость стала силой. Я нагло заявил, что немного говорю по-турецки. Офицер в приемной, беседующий с кандидатами, явно уставший от споров, велел мне подождать и пройти экзамен.
Знать турецкий меньше, чем я, было трудно. В сущности я мог сказать только одно слово: bilmem, означающее «я не знаю!». Естественно, я думал, что провалюсь на экзамене, но после трехчасового ожидания меня вызвали и сообщили, что уже слишком поздно и я должен прийти в среду, двумя днями позже. Я решил, что это хороший знак. В ближайшей берлитской школе, куда я поспешно отправился, мне посчастливилось найти армянина, который обучал турецкому. К моему недоумению, он объяснил мне, что я должен выучить алфавит и слова, совершенно не похожие на европейские. Он уверил меня, что даже чуть-чуть объясняться по-турецки я смогу не раньше, чем через полгода. Два дня – это какая-то безумная шутка. Однако я убедил его, и мы засели за работу.
Прийдя в военное ведомство, я внезапно осознал абсурдность моего предприятия. Все же я прошел на собеседование и вдруг оказался лицом к лицу с мистером Г. Фитцмауриком, в прошлом главным переводчиком в Высокой Порте, старинным другом моего отца. Я припомнил, что он был знаменитым ценителем восточных ковров, и, надеясь скрыть свое невежество, спросил его, стоит ли покупать ковры в Турции. Приманка сработала даже лучше, чем я ожидал. Битых полчаса он объяснял мне всю бесполезность попыток новичков-любителей перехитрить продавцов ковров Галаты. Затем, спохватившись и поняв, что время истекло, он сказал: «Однако я не проверил, как Вы знаете турецкий. Надеюсь, Вы научились ему у Вашего отца. В любом случае, Вам лучше позаниматься на курсах». Мы настолько не понимаем той божественной силы провидения, которая ведет нас по жизни, что единственной моей мыслью было: «Два дня работы и мои пять фунтов потрачены впустую!»
Таким образом я оказался на офицерских курсах в школе востоковедения. Моим учителем стал действительно талантливый человек Али Риза-бей. Турецкий со своим синтаксисом, так отличающийся от любого из европейских языков, захватил меня, и я работал с доныне неизвестным мне энтузиазмом. Я платил за частные уроки по вечерам с Али Риза-беем, а между дневными занятиями учил наизусть турецкие стихи. Удивительно, но вскоре я обогнал тех, кто начинал с приличным знанием разговорного турецкого, но не интересовался тонкостями языка.
В процессе обучения я начал понимать, насколько все наше мышление определяется лингвистическими формами. Европейцы и турки просто не могут думать одинаково. Субъектно-предикативная форма нашего языка требует субъектно-предикативной логики. В корневом турецком языке, от которого произошел турецких язык, нет предикативных форм. Там нет даже привычных нам предложений; есть сложное слово, выражающее отношение или чувства говорящего применительно к данной ситуации. В турецком естественно и легко различаются факты, мнения и чувства. В английском такие различия искусственны, и мы часто пренебрегаем ими. При переводе с турецкого на английский и обратно необходимо быть внимательным и не перепутать ясно выражаемую по-турецки неуверенность с утверждением факта. Недоверие к туркам и другим азиатам часто обусловлено недопониманием и ошибками переводчика. Даже когда турок говорит на европейском языке стиль его мышления напоминает турецкий.
Все это и гораздо больше я узнал от Али Риза-бея. В Турции это помогло мне завоевать доверие тех турков, с которыми я вел дела. Должен добавить, что турецкий образ мыслей показался мне внутренне ближе, чем субъективно-предикативная логика, которую я изучал в школе. Менее трех лет назад я открыл для себя и объявил своим героем Аристотеля. Теперь я постепенно осознавал, что логика может быть величайшим заблуждением.
Меня все сильнее тянуло на Восток. Мальчиком я не обращал на него особенного внимания. Мой отец много путешествовал, но больше, чем Азия, его привлекали Африка и Южная Америка. Меня безотчетно тянуло в Азию. Война окончилась; отставка и возвращение в Оксфорд, где меня ожидали ученики и где была перспектива профессионального роста, казались естественным развитием событий. Такой путь был тем более приемлем, так как я собирался жениться. То, что я в действительности предпринял, не было ни приемлемым, ни разумным. Я искал малейшую возможность как можно скорее отправиться в Турцию, хотя, женившись, мне пришлось бы оставить жену в Англии.
История моего первого брака довольно странная. До отправления во Францию в 1917 году я сделал предложение старшей сестре моего школьного товарища. Эвелин Мак Нил, высокая красивая девушка с большими зелеными глазами, казалась шестнадцатилетнему школьнику воплощением женской привлекательности. Меня очень удивило то, что она предпочитала мое общество молодым людям своего возраста. Нас связывало нечто большее, чем тщеславие или собственничество, которые являются частью практически всех человеческих взаимоотношений. Она была моей первой любовью, и на сторону я не смотрел. Мужское естество еще не пробудилось во мне; и ни для школьника, ни для кадета – женщины не играли в моей жизни сколько-нибудь значительной роли. То, что я сделал предложение, удивило меня самого – я и не собирался жениться, но однажды будучи в увольнительной на уик-энде, услышал собственный голос, произносящий те самые слова.
После ранения все бывшее в прошлом, казалось мне сном. Эвелин пришла в госпиталь навестить меня; я был очень рад ее видеть. Но о том, что я пережил, я не смог сказать ни слова. При первой же моей попытке сделать это, она очень расстроилась, и я понял, что она боится, что ранение повредило мой мозг.
Я выздоравливал, набирался сил и постепенно ощутил те сексуальные позывы, которые до сих пор не были мне знакомы. Все указывало на раннюю женитьбу. Мать воспитала меня в столь строгих правилах, что секс вне брака представлялся мне немыслимым. Но сейчас она сама была глубоко огорчена моим желанием жениться. Спустя много лет я увидел ее письмо к отцу Эвелин, в котором она утверждала, что брак будет ошибкой, и просила его повлиять на дочь. Все это прошло мимо меня. Я был не одним человеком, а двумя или тремя сразу. Юноша, беспомощно идущий навстречу браку, был тенью прошлого меня, странным образом вступившим в сговор с пробуждающимся мужским началом. Человек, собирающийся в Турцию, казалось, принадлежал более глубокому и истинному слою моего сознания. За ними обоими стоял третий – не юноша и не мужчина, тот, кто знал вкус смерти и бессмертия. Я еще не спрашивал себя: «Так кто же я, наконец?» Точно также я не понимал, что во всем, что я думаю и делаю, присутствуют те же дефекты моего характера. Решение жениться было еще одним проявлением стремления взять на себя то, что я не мог выполнить. Я двигался в ту сторону, которая и пугала, и притягивала меня и одновременно казалась нереальной – все это время я считал, что найду свою истинную жизнь в Турции.
Если бы я хоть сколько-нибудь был способен заглянуть внутрь себя, я бы понял, что изменился внутренне, и это дало бы мне силы изменить внешнее направление моей жизни. Однако, как и всегда, я слишком поздно замечал очевидное.
Со дня заключения временного перемирия до дня моего бракосочетания, с 11 ноября по 20 декабря, напряжение моей жизни постепенно достигало критической точки. По крайней мере десять часов в день я посвящал изучению турецкого языка. Тем временем болезнь моего отца становилась все более серьезной. Он был демобилизован из армии с лихорадкой черной воды, которой он заразился в Центральной Африке. Неисправимый оптимист, убежденный, что поправится, он строил планы новых путешествий и способов сделать нас всех богатыми.
Мои отец и мать глубоко любили друг друга. Но пуританское новоанглийское воспитание матери сделало беспорядочное поведение моего отца как в сексуальных, так и в финансовых вопросах неприемлемым для нее. Боясь, что он заразит нас, детей, она отослала отца из дому, продолжая тайно встречаться с ним. Я могу привести множество примеров ее стоического и спартанского отношения к жизни, которым она очень гордилась. Она лишь один раз навестила отца, умирающего в дешевом пансионе недалеко от Кеннигтон-Овал, куда его забросила бедность.
Я был слишком ненаблюдателен, чтобы понять, что происходит. Я частенько приходил к отцу. Его тело видимо таяло под натиском приступов лихорадки. Помню, как я в последний раз помог ему встать с постели. Я не понимал, как человеческое тело может быть столь разрушенным и продолжать жить. Он же говорил о великом плане поездки на Сицилию и реорганизации тамошних серных рудников.
На следующий день – а это был день моего бракосочетания – он умер. Утром я отправился в Брикстон. Впервые я имел дело со служителями похоронного бюро, должен был зарегистрировать смерть и распорядиться о похоронах. Мать настаивала, чтобы он был погребен как нищий и никто из нас не знал, где и кем. По ее же просьбе никому не сообщили о смерти отца до моей свадьбы. Сжав губы и блестя голубыми глазами, она говорила мне: «Я не одобряю этого брака и помешала бы ему, если бы могла. Но теперь уже поздно. Ты должен пройти через это». И добавила с присущей ей практичностью:, «На медовый месяц у вас остается три дня. Кто знает, когда еще будет такая возможность».
Каждое мгновение этого дня словно бы выгравировано в моем сердце. Вот я направляюсь в бюро регистрации рождений и смертей. Автобусом До Ватерлоо и затем поездом до Уимблдона. Переодеваюсь во взятую напрокат визитку. По пути к церкви захожу к своей бабке. Надо сказать, что моя бабка была величественной дамой, о которой говорили, что она может горы свернуть, но никто так никогда и не догадался, как она нуждалась в заботе и опеке. Она недолюбливала мою мать, вроде бы потому, что та была американкой, а на самом деле за то, что мать украла у нее младшего сына Бенджамина, ее баловня и любимца. Поскольку мать была против моего брака, бабка одобряла его и дала мне свое благословение.
Вот и последние шаги: вверх, на холм, и через Уимблдон-Коммон к церкви святой Марии. Время словно бы не существовало: хотя утром я переделал уйму дел, в церковь я пришел раньше времени и не знал об этом. Я чувствовал себя так же, как девять месяцев назад – отделенным от своего тела. Но на этот раз мое тело жило и двигалось к своей гибели.
Слово «гибель» звучит нелепо, ведь я любил Эвелин и действительно хотел жениться на ней. Я не разделял мнения моей матери о том, что мы безнадежно не подходим друг другу. Ощущение гибели не затрагивало эмоций и не было результатом обдумывания. Напротив, мысленно я беспомощно следил за происходящим.
Почему я не убежал из церкви? Все было неправильно в моей женитьбе, особенно в этот день при этих обстоятельствах. Успело ли остыть тело моего отца?
Я вошел в церковь и поднялся в придел. Я полагал найти там много людей – и никого не увидел. «Только землетрясение теперь может остановить все это». Вот уже моя невеста стоит рядом со мной. «Чтобы было, если бы я вдруг лишился дара речи?»
Полагаю, моя внутренняя растерянность никак не проявлялась внешне. Я двигался и говорил как автомат. Я ничего не мог с ним поделать и был бессилен как-то повлиять на него.
Медовый метод в Брайтоне был ужасен. Я не имел ни малейшего представления о том, что требуется от мужа. До этого я никогда не спал с женщиной и был слишком застенчив, чтобы задавать вопросы. Нельзя сказать, чтобы я чувствовал отдаление или был не в ладу со своей женой. Все поглощало чувство вины; к тому же в моих эмоциях царил слишком большой переполох, чтобы я мог чувствовать что-либо по-настоящему.
Мы вселились в служебную квартиру в Тэмпл Чамберс невдалеке от Стрэн-да. Постепенно я стал свободней общаться с женой, но чувство нереальности оставалось. Почти каждый вечер я задерживался допоздна на уроках турецкого Али Риза-бея. Однажды вечером я вернулся домой неожиданно рано и обнаружил там приятеля-офицера, ныне покойного. И он, и моя жена казались странно взволнованными. Я чувствовал себя виноватым, потому что помешал им. Ни тогда, ни теперь я не думаю, что произошло что-нибудь дурное, и до сих пор помню, как в голове у меня пронеслась мысль: «Теперь у меня есть оправдание, чтобы уйти».
Это было нелепо, поскольку я любил Эвелин, и она любила меня. Я хотел, чтобы она была счастлива, но в то время Турция и турецкий язык завладели мной полностью, и мы редко бывали вместе. Она была, очень терпелива, хотя я думаю, что начинал разочаровывать ее.
Через два месяца после нашей свадьбы курсы турецкого закончились. Выдержав экзамен первым, я стал старшим офицером группы, отправляемой в Салоники, чтобы присоединиться к оккупационной армии. Когда я уезжал, жена плакала, но моя мать была счастлива. Я знал жизнь меньше, чем многие молодые люди моего возраста. Но я был уверен, что жизнь и смерть гораздо интереснее, чем полагает большинство людей.
Глава 2
Разведывательная служба
В феврале 1919 года сообщения в Европе оставались нерегулярными и опасными. Средиземноморье все еще не было очищено от немецких мин, и Эгейское море считалось небезопасным для транспортных кораблей.
Прибыв в Болонью, я узнал, что мы, семеро офицеров, должны будем вместе ехать в одном железнодорожном вагоне, как в известной сказке «Сорок человек – восьмеро верхом». Путешествие из Болоньи в Торенто заняло двенадцать дней. Лично для меня это было первой из множества сопряженных с неудобствами поездок в моей жизни. Несомненно, из-за усталости и слабости, накопившейся за десять напряженных месяцев, прошедших после ранения, я заболел чем-то вроде инфлюэнцы с поносом и ознобом. Мы проезжали через Альпы и отчаянно мерзли, а на каждой остановке, которых по милости Божьей было много, я выпрыгивал, поскольку в поезде туалета не было. Боюсь, я не был особенно ценным членом общества в данной поездке. Мы доехали до Калабрии, и настала чудесная теплая погода, а на каждой станции итальянские крестьяне продавали вермут местного производства. В Торенто я прибыл вдребезги пьяным, но излечившимся. Пять дней ожидания в отвратительном лагере отдыха под Торенто, где никто не знал, что его ждет, – и мы морем отправились в Итею по Коринскому заливу. Из Итеи в Брало, вТессалии, вела горная дорога, выстроенная немецкими военнопленными. В какой-то момент водитель обернулся к нам и произнес буднично: «Вон там, справа, – Дельфы».
Трудно передать охвативший меня восторг: «Это история, и я принадлежу ей. В следующий раз я обязательно останусь здесь». Это лишь приблизительно отражает мое состояние. Во время пути мое тело перемещалось через неизвестные и необычные земли, но я сам словно бы возвращался в хорошо знакомые места, с которыми был каким-то образом тесно связан. Даже сегодня я не могу объяснить это ощущение. Некоторые говорят, что это отблески прошлой жизни, но я слишком осторожен, чтобы верить в реинкарнацию, по крайней мере в ее известном виде. Однако я склоняюсь к вере в предчувствия, вто, что мы как-то связаны с будущим, которое влияет на нашу жизнь больше, чем мы думаем.
Неделю мы провели в Салонике. В армии были совсем другие настроения, нежели те, с которыми я сталкивался во Франции. Здесь шла совсем другая война. Болезни и паршивая еда стали худшими врагами, чем болгары. Конец войны не принес с собой ощущения мира. Я впервые столкнулся с ожесточенными распрями между союзниками, которые вскоре захватили всю политическую арену.
Недавно открыли железную дорогу между Салониками и Константинополем, но наш поезд медленно полз от деревни к деревне. Мы развлекались первоклассными жареными цыплятами, густым вином и сигаретами из лучших табачных листьев в мире. Для крестьян это были невыгодные сделки, но они были готовы лучше сто лет бежать за поездом, чем потерять покупателя. Турецкий понимали повсюду, хотя прошло восемь лет с тех пор, как Македония отошла Греции.
Наконец, почти через месяц после отъезда из Англии, мы прибыли на станцию Зиркеджи в Истамбул. Она была наводнена возвращающимися турецкими солдатами, беженцами из России, стремящимися уехать все равно куда, греками, армянами, евреями и немалым количеством немцев, задержавшихся по дороге домой.
На следующий день мы доложили о себе в черноморскую ставку британской армии, где мне, старшему группы, предложили единственное вакантное место помощника офицера связи в турецком военном ведомстве.
Остальных направили работать цензорами – ничтожное, утомительное занятие, заставляющее людей пить.
Работа в военном ведомстве требовала постоянного чтения, письма и общения на турецком, так что я быстро осваивал этот язык. В этом обширном заведении кроме меня находился еще один британский офицер – глава связистов – майор Ван М. В то время он переживал бурный роман с русской дамой, которая требовала его постоянного присутствия. Я был оставлен один на один с генералами, генерал-лейтенантами и штабными всех рангов, выдавал разрешения штабным офицерам выезжать за пределы Истамбула, переводил и рассылал инструкции британской ставки и, что меня особенно веселило, еженедельно отправлял рапорты об «Успехах в демобилизации турецкой армии». Что мне еще оставалось делать, кроме как переводить и подписывать донесения турецких штабных генералов, которые они считали нужным мне предоставить?
Поскольку ни французские, ни итальянские офицеры связи толком не говорили по-турецки, моя контора была постоянно заполнена офицерами, жаждущими решения своих проблем, включая те, которые должны были решать наши союзники. Так, за пару недель я обзавелся множеством друзей, большинство из которых по возрасту годились мне в отцы.
Неожиданно на один день я стал инструментом судьбы. Пятнадцатого мая греческие войска высадились в Смирне и столкнулись с непредвиденным сопротивлением. Султан согласился с Верховными комиссарами союзных войск выслать делегацию во главе с генералом Мустафой Кемалем, героем Галлиполи, чтобы убедить всех, что турецкая армия не имеет отношения к конфликту. Восьмого июня – мне как раз исполнялось 22 года – в мой кабинет вошел турецкий штабной офицер и попросил предоставить визы Мустафе Кемалю-паше и его спутникам.
Прочтя список, я обнаружил в нем имена тридцати пяти наиболее деятельных генералов и штабных полковников турецкой армии. Мне не хотелось давать им визы. Майор Ван М. был, как обычно, занят собственными делами. Я отправился в главный штаб и захватил с собой список. Дежурному штабному офицеру я сообщил, что миссия выглядит скорее военной, чем миротворческой. Мне велели подождать, пока совещались британские верховные комиссары. Прошло около часа, прежде чем меня вызвали и приказали вернуться и выдать визы. «Мустафа Кемаль-паша, – сказали мне, -пользуется полным доверием султана».
Лишь пятью неделями позже Мустафа Кемаль-паша был низложен султаном. Он объявил войну Греции и собирал остатки турецкой армии с помощью как раз тех офицеров, которых мне было приказано пустить в Малую Азию. Этот случай был моим первым контактом с высокой политикой и началом разоблачения кажущейся мудрости сильных мира сего.
Тем временем в моем ведомстве все шло отлично. Однажды июньским утром, болтая за чашкой турецкого кофе, которым мы запивали блюдо под названием махаллеби, старший офицер посетовал, что почти никто из них не говорит по-английски, поскольку они проходили обучение в Германии. Под влиянием момента он спросил, не соглашусь ли я давать уроки английского некоторым штабным офицерам. Это, помимо всего прочего, помогло бы скоротать время, так как большинству из них совершенно нечего было делать. Не особенно задумываясь о возможных последствиях, я согласился. Просьба звучала совершенно безобидно; кроме того, я помнил о задании поближе сойтись с турецкими штабными.
К несчастью, мои уроки английского имели слишком громкий успех. Заметив, что турецкие юноши даже в высших школах обучаются путем заучивания уроков наизусть и громкого их повторения, я применил тот же метод. Вначале я провел беседу, основанную на знаниях, полученных от Али Риза-бея, я затем выдал серию предложений в субъектно-предикативной форме.
На первом занятии присутствовало шестьдесят офицеров, на втором -триста, а на третьем – больше четырехсот. Большой штабной лекторий насчитывал тысячу мест и через пару недель мог быть переполненным. Штабные офицеры были настроены на прекращение вражды и искренне хотели подружиться с британцами. Турция и Британия в течение многих лет были добрыми друзьями, и каждому было ясно – ba’ad al harab al Basra – «после разграбления Басры», как говорила арабская пословица, что турки сделали грубую ошибку, позволив втянуть себя в войну против нас. Ни британское правительство, ни британская миссия в Турции не осознавали силы и искренности турецких добрых намерений, пока не стало слишком поздно.
Наши союзники, особенно французы, знали и завидовали этому. Они просто не могли поверить, что мы не осознавали и не были готовы использовать это наше преимущество. Поэтому, когда разнесся слух о курсах английского в британском военном ведомстве для сотен старших штабных офицеров, поднялся страшный шум. Вместо того, чтобы обратиться в британский главный штаб и добиться закрытия курсов этим же вечером, французское и итальянское правительства заявили официальный протест высшему союзному консулу в Париже. Это произошло в тот момент, когда обстановка и так была накалена сирийским вопросом и Сикес-Пикотским соглашением о зонах влияния. Мои уроки английского были раздуты до уровня «инцидента».
И я был вызван в британскую ставку для отчета перед генералом (позднее фельдмаршалом) сэром Георгом Милном в присутствии французского и итальянского главнокомандующих и представителей трех верховных комиссаров. Все они сидели за столом из черного мрамора совершенно невероятных размеров и пронизывающе холодным. Меня отчитали за мою инициативу. Меня увольняли из турецкого военного ведомства. Французскому и итальянскому главнокомандующим были принесены извинения.
Я чувствовал себя странно не вовлеченным во всю эту впечатляющую сцену. Когда-то мне довелось наблюдать детское поведение американцев, и я хорошо усвоил этот урок. Я отдал честь и вышел, печатая шаг, удивляясь, что меня не арестовали. Мне велели подождать в приемной главнокомандующего. Я сел, ожидая, что буду разжалован и отправлен на скучную цензорскую работу.
Часом позже, когда представители союзников покинули главный штаб, меня вызвали в личный кабинет главнокомандующего, а не в большой конференц-зал, отобранный у турков. Генерал Милн находился там вместе с шефом военной разведки, столь высокопоставленным штабным офицером, что я даже не подозревал о его существовании. Мне приказали сесть и изложить собственную версию происшедшего. Осмелев под благожелательным взглядом генерала Милна, я заговорил о своей уверенности в искреннем желании турецкой армии расположить к себе британцев и окончательно расторгнуть союз с немцами. Шеф разведки задал несколько вопросов об офицерах, которых я, по счастью, хорошо знал. Главнокомандующий молча слушал и вдруг перебил меня своим знаменитым грубым голосом: «Мне нужно отправиться в Смирну. Нужно как-то разобраться в этой заварухе между греками и турками. Поедете со мной в качестве моего личного офицера разведки?»
Я молча согласился, до глубины души растроганный его добротой. Ни слова не было сказано о военном ведомстве, но я уверен, что в глубине души главнокомандующий был раздосадован тем, как французы сделали из мухи слона. Кроме того, даже я знал, что на его добрых отношениях с генералом Франшетом де Эспереем эта история никак не отразилась. Французский главнокомандующий подарил Костантинополю госпиталь, носящий его имя, и делал все возможное, чтобы как можно выше поднять престиж Франции над остальными союзниками. Французы позволили туркам оставить на Силиции большое количество военной амуниции, подлежащей уничтожению, надеясь таким образом повлиять на спор о границах. По сравнению со всем этим мои уроки английского выглядели совсем безобидно.
В то время я едва догадывался о разногласиях между союзниками и даже между различными службами, разведывательной, военной и военно-морской и самими правительствами. Мир вокруг меня, казавшийся непостижимой мечтой, оказывался миром тщеславия и властолюбия. Посаженные семена были взяты из пакетика с надписью «Мир», но в действительности были семенами непримиримой вражды.
Неожиданный поворот судьбы, забросивший меня в Смирну, казался не более реальным, чем все остальное. Я надеялся привезти в Турцию жену, как только союзные правительства решат, что в ней стало безопасно для женщин. Смирнская миссия так взволновала меня, что я забыл обо всем на свете. Я был переводчиком главнокомандующего на всех его встречах. Он не говорил или не хотел говорить по-французски, и я переводил и на турецкий, и -на французский. Должен сказать, я не был обычным переводчиком. Я глубоко осознавал языковые различия между азиатами и европейцами. Переводчик, который использует только неопределенную форму, может создать впечатление положительного утверждения и вызвать серьезное непонимание.
Будучи личным переводчиком вначале генерала Милна, а затем генерала Хара, я постепенно увидел новую сторону человеческой жизни. Так случилось, что за период между 1919 и 1921 годами я познакомился с несколькими знаменитостями и обнаружил, что ими движут те же тривиальные побуждения, что и обычными людьми. Природа человека везде одинакова; не изменяется она, и если человек очень умен или удачлив в глазах других. Она все та же даже у искренних патриотов и гуманистов.
В Смирне я впервые встретил действительно умного политика. Мистер Стергиадис, верховный греческий комиссар, близкий друг мистера Венизелоса, несомненно лучший, кто мог бы добиться аннексации западных провинций Анатолии – осуществить мечту Мегали Хелласа. Греки, несомненно, вели себя не лучшим образом. Они глубоко проникли внутрь страны и спровоцировали турецкое сопротивление множеством мелких инцидентов. Почти каждый день мы собирались и выслушивали объяснения мистера Стергиадиса по поводу той или иной провокации. Я не мог не восхищаться изяществом, с которым он поворачивал обсуждение в нужную ему сторону. Иногда он не умолкал в течение получаса, пока наконец его слушатели, превосходные солдаты, не слишком искушенные в дипломатии, начисто ни забывали о собственном вопросе. Порой я прерывал свой перевод для турецкого представителя, чтобы напомнить генералу Милну о реальной проблеме на повестке дня, и он набрасывался на нее, как бульдог. Но от самого начала и до самого конца Стергиадис не произносил ни звука, могущего повредить его стране в глазах верховного военного консула. В то время как остальные, пытаясь докопаться до истины, приводили аргументы и контраргументы, Стергиадис осознавал, какой рапорт о происходящем прочтут в Париже. Но даже на первый взгляд становилось ясно, что мистер Стергиадес был рабом общих слабостей человеческой расы, столь же тщеславным, полным страха и желания власти, которые движут всеми людьми, великими или ничтожными. Вопрос, почему люди такие, начинал возникать во мне, но я был слишком занят, чтобы дожидаться ответа.
В Смирне мои обязанности не сводились только к переводам. Мне приходилось анализировать донесения разведки о положении дел в Анатолии. Здесь я добился успеха и приобрел репутацию офицера разведки и был неоднократно упомянут в депешах главнокомандующего. На мой стол ложились горы донесений разведслужб о силе турецких «банд», как их называли по настоянию греков, и которые сопротивлялись греческой оккупационной армии. Верховный военный консул потребовал немедленно доложить об истинном положении дел. Офицеры союзников не допускались во внутренние области страны, поэтому у нас не было ничего, кроме этих донесений. Большая часть из них представляла собой дикие догадки или пропагандистские уловки. Количество областей, где орудуют банды, колебалось он единиц до нескольких тысяч. Я должен был подготовить карту распределения количества и мощи турецких войск. По тону каждого донесения я пытался догадаться, чем руководствовался его автор, по стилю письма – насколько он все преувеличил. Я составил вполне прилично смотревшуюся карту, которую специальным курьером отправили в Париж.
Сразу после этого турки предоставили офицерам союзных армий безопасную возможность увидеть все собственными глазами. Донесения очевидцев с точностью, доходящей до абсурда, совпадали с моими выкладками.
Смирнская миссия преподала мне урок грубой лжи, который мне никогда не забыть. Турецкий представитель представил на наше рассмотрение донесение, в котором с ужасающими подробностями описывалось, как греческое военное подразделение зверски расправилось с тридцатью семью турками, среди которых были и мужчины, и женщины, а их тела были сброшены в колодец. Отравление колодца рассматривалось как особое злодеяние.
Мистер Стергиадис, чтобы, как я думал, выиграть время, предложил провести расследование. Генерал Хар дал свое согласие и приказал мне отправиться на место событий с французским и немецким представителями, чтобы они не зависели от переводчиков, так как я был единственным штабным офицером, говорившим по-турецки.
Железнодорожное сообщение Смирна-Аидин было разрушено во время войны, но рельсы остались целы. Мы сели в дрезину – небольшую открытую повозку, заправляемую бензином, – охраняемые четырьмя вооруженными мужчинами. Полагаю, это были бенгальские уланы из охраны главнокомандующего.
Дорога пролегала через руины Эфезуса, возвышающиеся над зеленым морем лакрицы. В конце пути нас ждали лошади, и мы отправились к месту убийства, расспрашивая жителей близлежащих деревень. Все слышали о происшествии, но каждый рассказывал свою версию. Чем ближе мы подъезжали, тем более неопределенными и неуверенными становились рассказы. Единственное, в чем были уверены все, так это в отравлении колодца. На месте преступления мы быстро составили истинную картину произошедшего. В колодец свалилась овца. Услышав ее вопли, люди решили, что произошло убийство и не осмеливались заглядывать в него несколько дней. За это время вода в колодце отравилась, поскольку была середина августа и труп быстро разлагался. Хотя все очистили за десять дней до нашего приезда, воду все еще нельзя было пить.
Думаю, что многие, если не большинство ужасающих историй, случившихся в военное время, похожи на эту. Доля правды присутствует в каждой, но безудержное воображение и предвзятые мнения превращают факты в отвратительную ложь.
На обратном пути в Аидин турки попросили меня заехать в Сеук, где действительно была нужна помощь. Я оставил своих спутников, намереваясь вернуться в Смирну на следующий день. Они же занялись собственными расследованиями.
Сеук – это долина в извилине реки Меандр, сегодня одна из богатейших долин в Анатолии, но в то время практически не заселенная из-за свирепствовавшей там малярии. Раньше я никогда не видел такого зрелища, которое открылось нам, когда мы миновали нижний водораздел. Долина реки Меандр шириной около двадцати миль была полностью покрыта бледно-голубым ковром из москитов. Я не мог в это поверить, покуда мы не поехали через лакричные поля. В те дни там совсем не проводилось культивационных работ, а лакричный корень собирали зимой, когда москиты спали. Когда-то было заключено соглашение с Америкой о выращивании там табака, но, вероятно, мистер Врингли с его жевательной резинкой истощил всю почву в этой области.
В Сеуке мне показали трупы двоих людей, погибших от холеры. Зрелище было тяжелым. Никто не осмеливался подойти к ним близко и похоронить, так что вонь стояла невообразимая. Я посоветовал засыпать их известью. Этого не сделали, наверное, потому, что крестьяне полагали, что кто-нибудь захочет их еще увидеть. Мое присутствие, однако, убедило их в обратном. Раньше я никогда не видел жертв таких болезней, как холера и малярия, и, признаюсь, был напуган. Несмотря на это, я задержался в деревне на два дня , пока посланный в Смирну человек не привез с собой доктора.
За две ночи, проведенные в Сеуке, я получил ясное представление о караван-сарае. В течение столетий это была стоянка для верблюдов, идущих в караванах из Средиземноморья в Персию и Туркестан. В то время там еще было много караванов. Звук верблюжьих колокольчиков и запах верблюдов были повсюду. Через несколько лет все это исчезло.
Мир менялся в 1919 году, и перемены в Азии были не менее стремительны, чем в Европе.
По возвращении в Смирну, я заболел. Это могло быть чем угодно, а оказалось амебоидной дизентерией. В Смирне отсутствовали врачи-британцы. Кроме того, никто в миссии не осознавал, насколько я болен. Я был ужасно слаб, едва держался на ногах, чтобы добраться до туалета и обратно. Как-то раз зашедший проведать меня адъютант главнокомандующего ужаснулся, увидев, в какой грязи я живу. Меня срочно вывезли в Константинополь, где я вскоре поправился. Но дизентерия не прошла бесследно, и для полного выздоровления потребовалось сорок лет.
Тем временем в моей судьбе произошел очередной поворот. Как только я оправился от болезни, а это был сентябрь 1919, меня вызвал шеф разведки и сообщил, что я могу выбрать одно из двух предложенных мест работы. Одним из них была должность британского проверяющего офицера в Баку на Каспийском море, а другим – главы военной разведки в Константинополе. Обе должности предполагали обычное продвижение по службе и требовали хорошего знания языка. Мне дали сутки на размышление.
Было довольно-таки странно, что у меня был выбор. Позднее я понял, что должность в Баку считалась опасной; действительно, отправленный туда человек был вскоре схвачен большевиками и три года провел в коммунистическом застенке. Баку не привлекало меня ничем, кроме как дорогой в закаспийскую область и дальше. Будучи в Сеуке, я начал подумывать о караванном походе в Китай через Персию, Туркестан и пустыню 1Ъби. С другой стороны, Константинополь привлекал меня уже сейчас, и я проигнорировал дружеские предостережения товарищей о том, что выбираю очень неприятную и щекотливую работу.
Начинался один из самых странных и волнующих периодов моей жизни. В Англии я чувствовал себя не в своей тарелке, но среди турок, черкесов и курдов, греков, армян, евреев и всего разношерстного сборища левантийцев, с которыми мне теперь приходилось иметь дело, я был как дома.
Прибыв в свою новую контору в Хагопиан Хан, затерянную в массе квартир рядом со старым железнодорожным туннелем Галаты, я понял, почему надо было торопиться занять это место. Почти все офицеры немедленно уезжали, чтобы возвратиться к нормальной работе в новой постоянной консульской службе, из которой были временно отозваны. Среди офицеров регулярной армии никто не говорил, читал или писал по-турецки на уровне, достаточном для выполнения работы.
Я приступил к работе в трудный момент. Вторжение греков в Малую Азию возмутило турков, терпимо относящихся к британцам и французам, но крайне ожесточенных против греческих оккупантов. Другая, более явная причина их недовольства, заключалась в том, что каждое командование союзников захватывало дома и нежилые помещения в и без того переполненном городе. Из Центральной Азии шел поток паломников в Мекку, наводненный, по слухам, большевистскими агитаторами, которые вели языческо-исламскую пропаганду, отвлекая тем самым внимание союзников и позволяя русским завоевать Кавказ. Добавьте к этому армянское население, взволнованное рядом удавшихся покушений на армян, подозреваемых в сотрудничестве с младотурками, и белых беженцев из России, Крыма и Украины, тысячами прибывающих в Константинополь, и вы получите некоторое представление о нагрузке, обрушившейся на политический отдел военной разведки в Константинополе.
Мне не дали ни советов, ни инструкций, кроме того, что я должен принять работу от своего предшественника. За неделю я должен был вникнуть в работу секретных агентов, научиться составлять донесения, понять, насколько офицеры могут проводить свои собственные расследования, в каких отношениях мы находимся с военной полицией союзников и так далее и тому подобное.
Как-то все заработало. Вскоре я получил первые хорошие результаты, в основном благодаря неимоверному количеству сплетен, позволявших мне день за днем улавливать изменения настроений в огромном гудящем городе с населением в миллион с четвертью человек, полудюжиной рас и четырьмя религиозными группами. Об интенсивности моей работы можно судить по тому факту, что через двенадцать месяцев количество донесений, составленных мной лично, перевалило за тысячу. Ночи посвящались встречам с очень тайными агентами, утро и вечер – чтению и составлению донесений, а оставшееся время – выслушиванию стоящих сплетен.
Я получил разрешение на приезд жены. Главным моим развлечением в то время было регби. Домашней жизни я уделял мало времени, да и жена не запросто сходилась с теми немногими офицерскими женами, которым было разрешено приехать в Турцию. Несмотря на это, главная цель ее приезда была достигнута. Вскоре она забеременела. Мы оказались настолько несведущими, что заметили это только через четыре месяца. Тут она испугалась и заявила, что должна вернуться в Англию, чтобы о ней смогли позаботиться. Я не удерживал ее. Она занимала чересчур мало места в моей жизни. И тогда, и еще более сейчас мне думается, что единственной истинной причиной нашего брака было предопределение, что она должна родить ребенка, а я должен стать его отцом. Вот та единственная связь, которая была между нами, связь очень сильная, и я верю, что ни жизнь, ни смерть не могут ее разрушить.
Когда Эвелин уехала в Англию, я регулярно, два-три раза в неделю, писал ей. Эти письма сохранились, и, перечитывая их теперь, я вижу, насколько я был эгоистичным и непонимающим. Письма полны жалоб на собственную усталость и отягощенность заботами. Выражения любви и симпатии, но полное отсутствие понимания того, что переживает женщина, когда носит первого ребенка. Наша дочь родилась 18 августа 1920 года. Практически тотчас же я ощутил полнейшую невозможность продолжать писать домой. Англия, семья, жена и дочь принадлежали одному миру, а я – другому. Мои письма стали редкими и вымученными.
После долгих колебаний и очень смущаясь, я завел интрижку с армянской девушкой. Начал я и пить, временами довольно сильно. Все, что меня действительно заботило, моя работа, и даже субботние регби постепенно я стал посещать все реже и вскоре совсем забросил. Я словно бы слишком круто вел машину и не знал, куда направляюсь.
Чтобы проиллюстрировать то постоянное давление, которое я испытывал, опишу события 20 марта 1920 года. Моя жена недавно уехала в Англию и я устроил себе постель прямо в конторе, чтобы работать ночью.
В это время турецкая палата депутатов, избранных под надзором союзников с очевидной целью придать вес незаконному Севрскому договору, заседала в Константинополе. Мустафа Кемаль-паша сколотил сильную армию, но союзники были далеки от осознания его силы. В этот момент совершилась чудовищная ошибка. Палата депутатов постепенно почувствовала себя уверенней и открыто критиковала правительство Дамад Ферид-паши за его раболепное отношение к грекам, вторгшимся в Малую Азию и на Ближний Восток. Дебаты, возникшие вокруг этого, были необходимы для выхода накопившегося возмущения турков, и при мудром руководстве палата депутатов могла перекинуть мостик между султаном и его правительством в Константинополе и Мустафой Кемалем и его армией.
Вместо этого в критический момент было принято паническое решение арестовать всех депутатов и интернировать их на Мальту. Я получил совершенно секретное уведомление об этом решении, согласно которому операция должна была быть проведена не полицией союзников, а армейскими подразделениями в форме. Дома членов парламента следовало окружить в четыре утра 20 марта, а ордер на арест предъявить на пороге.
Нелепость этой процедуры была очевидна, и не только мне. Я доложил в штаб разведки, что само устройство турецких домов с их сералем и гаремом позволят депутату с легкостью ускользнуть через тайный выход, непременно присутствующий в гареме, и оставить армию в дураках. Должен пояснить, что британцы несли ответственность за Пера, Галату и северное побережье Босфора, французы – за Истамбул и морское побережье Мармары, а итальянцы – за азиатскую сторону, поэтому на нас приходилась основная часть операции, поскольку большинство депутатов жили в нашем округе.
Единственной реакцией на все мои предупреждения оказалось распоряжение, чтобы за домами было установлено секретное наблюдение людьми в штатском и военными. В моем распоряжении находилось не более десяти верных агентов, тогда как количество депутатов составляло сто двадцать человек. Эта нерешаемая задача была выполнена моим наиболее верным агентом, храбрым и преданным армянским джентльменом, которого я буду называть мистер П. Он предложил предоставить в мое распоряжение ресурсы армянского тайного общества, наводящего ужас – Дашмак Зутиум. По крайней мере три сотни членов Дашмак были привлечены к наблюдению за турецкими депутатами утром 20 марта.
Всю ночь я провел в своей конторе, а с четырех утра начали поступать сообщения моих агентов о полнейшем провале операции: арестовано восемь добровольно сдавшихся депутатов; остальные спрятались. Я был спокоен и ничего не предпринимал.
В восемь утра пришел срочный запрос из ставки. Могу ли я взять на себя аресты нескольких, к сожалению, скрывшихся депутатов? Я спросил, сколько из них в действительности находятся в руках властей, и получил ответ: «Около десяти». Я обратился за помощью в полицию союзников. Мне было известно, что мой друг Бернард Рикатсон-Хатт имел хорошо обученную дисциплинированную группу с несколькими переводчиками.
Когда наконец настала ночь, восемьдесят пять депутатов встретили ее под замком и наша честь была спасена. Меня пригласили в ставку и поздравили. Мне пообещали награду, но я был уверен, что об этом эпизоде постараются забыть как можно скорее. Сам я чувствовал себя довольно паршиво. Все это казалось трагической ошибкой. Сорок депутатов, избегнувших ареста, направились прямо в Анкару, где провозгласили временный турецкий парламент, объявили султана и его правительство низложенным и поставили союзников перед проблемой, решение которой стоило немалых унижений.
Я ожидал, что из-за участия в этом деле все мои турецкие друзья отвернутся от меня. Но оказалось, что всем известно истинное положение вещей, и даже мой настойчивый протест против ареста облетел все рынки. Более того, мне удалось освободить нескольких депутатов по семейным обстоятельствам и не отсылать их на Мальту. Все сочли, что у меня гораздо больше авторитета, чем было на самом деле, и моя контора переполнилась родственниками политических заключенных. На мне, кажется, были испробованы все формы взяточничества. Вполне обычно в моей конторе выглядел козел, водруженный прямо на стол, и пара гусей, возящихся на полу.
Неожиданно я сам чуть не оказался в ловушке. Своим успехом 20 марта я был обязан членам организации Дашмак Зутиум. Я почти ничего не знал о них, кроме того, что, основанное в России как революционное секретное общество, оно поставило своей целью освободить Армению из-под ига царской России. Во время войны оно содействовало союзникам в борьбе против Турции. Сейчас оно стало инструментом армянской мести, направленной против тех, кто принимал участие в департации и преследовании армян. Дашмак считался ответственным за убийство Талаат- паши в Берлине, Махмуд-паши в Милане и даже Энвер-паши в далеком Туркестане. Теперь они принялись убивать в Турции армян, сотрудничающих с молодым турецким правительством.
Убийства планировались и исполнялись с потрясающей точностью. Они совершались среди бела дня в толпе, в которой насчитывались десятки и сотни армян, и убийца легко мог потеряться среди них. Полиция пыталась проникнуть в массу кричащих и снующих людей, криками и жестами привлекая к себе внимание, но было уже поздно. Если даже и арестовывали дюжину свидетелей из толпы, те ничего не могли сообщить. Большинство действительно ничего не знали, а те, кто хоть как-то был причастен, знали только, что должны быть в определенный час в указанном месте. В любом случае не находилось храбреца, который осмелился бы хоть намеком указать на смертельно опасный Дашмак.
После третьего или четвертого убийства, полностью поставившего в тупик и турецкую полицию и полицию союзников, я получил указание произвести расследование. Я догадывался, что убийство организовал Дашмак, и попросил мистера П. поправить меня, если я ошибаюсь и за этим не стоит организация. Он не отрицал этого, но попросил меня стать на их место. Он принялся рассказывать мне один за другим случаи, когда вероломство армян приводило к гибели сотен их соотечественников и единоверцев. Возмездие не могло прийти законными путями, но армянские секретные общества – Дашмак был лишь одним из многих – взвешивали и судили каждый случай. Я сказал, что мы все многим обязаны Дашмаку; именно они передавали сообщения в Кут-эль-Амара и обратно, когда там находился похищенный генерал Таунсэнд, и они же помогли бежать многим британцам, заключенным в турецкие тюрьмы. После событий 21 марта я сам был им очень благодарен. Но политические убийства одобрить я не мог.
Трудность заключалась в том, что никто не имел ни малейшего представления о лидерах и членах комитета Дашмак. Сам мистер П. был верным британским агентом и находился вне подозрений. Я отослал рапорт в штаб и попросил совета. Никто явно не хотел связываться со всем этим. Мне было сказано, что это дело регулярной полиции, и мне лучше оставить все, как есть, и забыть о том, что я слышал.
Следующее убийство всколыхнуло всю Турцию, поскольку жертвой стал сказочно богатый армянин, с которым расправились в Восточном экспрессе, когда он, возможно, бежал из страны. Труп привезли обратно в Турцию, и тут возникла отвратительнейшая ситуация. При жизни этот человек, вероятно, пообещал огромную сумму денег армянским фондам, но не заплатил. За его тело, похищенное на станции Зиркеджи, потребовали выкуп. Несколько недель семья сопротивлялась, но, в конце концов, сдалась. В Армянском соборе устроили величественные похороны.
Я вновь обратился за разъяснениями по этому делу к мистеру П. Он уверил меня, что Дашмак здесь ни при чем, но согласился, что они поставили себя в сомнительное положение. К этому моменту у меня в руках были некоторые нити, ведущие к активным членам общества, и я пригрозил, что начну действовать. Мистер П. попросил меня подождать и на следующий день явился с потрясающим предложением. Комитет Дашмака согласился, чтобы в будущем я был судьей, и, когда мистер П. предоставит мне все факты, разумеется, без упоминания имен, мне предстоит решать, заслуживает ли этот человек смерти, и если я скажу, что нет, его пощадят. Подразумевалось, что британский главный штаб не будет поставлен в известность. Я счел за лучшее согласиться, тем более что явные меры вряд ли бы имели успех.
Только одно дело было представлено на мое рассмотрение. Без знания имен и мест событий оказалось невозможным составить сколько-нибудь ясное представление, и я отказался давать заключение. В последующем убийства армян прекратились. До сего дня я не знаю, сыграло ли мое вмешательство какую-нибудь роль. Но мне это дало острое переживание вовлеченности в управление жизнью и смертью. Я уже начал забывать о смерти, окруженный множеством событий моей довольно-таки странной жизни.
И действительно, в то время жизнь моя была необычной. От предшественника моего я унаследовал роскошный мерседес, принадлежащий изначально главнокомандующему Лиману фон Сандерсу-паше. Почти каждый день я проезжал через Пера, Галату и Стамбул и познакомился с великим множеством людей, знал их истории и мог проследить за политической жизнью города в основном по наблюдениям за прохожими на улицах. Турки приписывали мне знания и влияние, простирающиеся далеко за пределы моих истинных возможностей. Британский главный штаб мало интересовался моими действиями, но постоянно расширял область, за которую я отвечал. В начале это был Константинополь с предместьями. Затем в мае 1920 года всех британских контролирующих офицеров вывели из Малой Азии и оставили все дела на разведывательную службу. Мне сообщили, что сумма, ежемесячно предоставляемая в мое распоряжение, увеличивается в пять раз, а территория моей работы охватывает Малую Азию вплоть до границы с Россией. Позднее эта область еще расширилась и, наконец, моя безвестная контора в Пера отчитывалась за территорию, сравнимую по величине с Европой и простирающуюся от далматийского побережья до границ с Персией и Египтом. В работе у меня было несколько настоящих успехов, но были и ошибки. Крайне неопытный, я превратился в тонкого знатока и знал о происходящем на Ближнем Востоке гораздо больше, чем большинство моих начальников.
Приведу один пример. К середине 1919 года было запланировано провести полное разоружение турецкой армии в Малой Азии. Все нарезное оружие’и обмундирование подлежали изъятию. По каким-то причинам было признано непрактичным перевозить тяжелые ружья, но артиллерийские эксперты утверждали, что они станут совершенно безопасными, если вынуть затворы, поскольку последние можно изготовить только в специальных цехах.
В июне 1920 года я получил донесение о том, что затворы изготавливаются в железнодорожном цехе в Эскишекире, большой железнодорожной станции между Константинополем и Анкарой. Отправляя соответствующий рапорт, я не осознавал, какую деликатную проблему затронул. Дело было в том, что некий высокопоставленный артиллерийский чин проигнорировал мнения собственных экспертов, которые утверждали, что изъятие затворов может оказаться недостаточным. Мой рапорт был возвращен мне как беспочвенное предположение.
Когда я рассказал об этом агенту, приславшему сообщение, албанцу, в прошлом летному офицеру турецкой армии, истинному солдату удачи, его задело за живое то, что кто-то посмел сомневаться в его словах. Вернувшись в Анатолию, он добыл там бесспорно подлинные фотографии цехов, где изготавливаются затворы. Вскоре после этого офицеры связи с греческой армией доложили, что турки применяют тяжелую артиллерию, источником которой подозревали Францию. А в трофейном ружье был обнаружен затвор местного изготовления.
Невозможно себе представить, что тут началось. К счастью для меня, главнокомандующий был одним их тех, кто сомневался в разумности оставления ружей туркам. Я был упомянут в его донесениях и выдвинут на ускоренное продвижение по службе.
Этот и другие успехи вскружили мне голову и я решил, что могу делать все, что захочу. Ко мне, двадцатитрехлетнему, приходили советоваться о высоких материях седобородые старцы. Ежедневно я встречался с членами турецкого кабинета министров, евнухами и камергерами Йилдиза, дворца султана, шпионами, информаторами, политическими интриганами и сплетниками, причем все они наделяли меня авторитетом и влиянием в Лондоне. Позднее я узнал, что – Бог весть как – меня причислили к Королевской семье. И сколько бы я ни отказывался от подобного родства, серьезно или шутливо, все лишь усиливало слухи.
Почти девять месяцев, с июня 1920 года по март 1921, я был в гуще турецкой политики. Мне доверяли государственные тайны и советовались по деликатнейшим вопросам правительственной политики. С тех пор в Турции вышли несколько книг, посвященных тем годам перемирия, и в них обо мне упоминается как о зловещей, странной фигуре. Но, без сомнения, наиболее высокую оценку дала мне американская газета, чей турецкий корреспондент назвал меня «знаменитым британским секретным деятелем».
По любому вопросу турецкий кабинет министров консультировался со мной, и я, несмотря на возраст, с легкостью давал советы. Однажды меня просили порекомендовать нового шефа полиции, и я предложил моего друга Тазин-бея, честнейшего албанца, которому, по крайней мере, я доверял. Позднее он во многом помог мне, но тогда я и не думал извлекать какую-либо выгоду из этого назначения. Тазин ввел меня в круг провинциальных прихлебателей турецких министров, с которыми иначе я бы никогда не познакомился. Сохранившиеся у меня фотографии, сделанные на обеде в префектуре полиции, скажут больше, чем любые слова.
Глава 3
Первое соприкосновение с Исламом
Впервые я познакомился с исламской мистикой, так сказать, по долгу службы. Происламские настроения очень беспокоили союзников, особенно англичан, под властью которых находилось сто пятьдесят миллионов мусульман в Индии, среди малайцев и в Африке. Священная война Джихад, провозглашенная турецким султаном и халифом под давлением 1ермании, оказалась ошибкой, но всколыхнула всех мусульман. Когда я прибыл в Турцию, полагали, что большевики усиливают исламские течения, чтобы отвлечь внимание союзников от их собственных действий на Кавказе и в Персии. В России до сих пор не было сильного центрального правительства, но старая русская разведывательная служба продолжала работать и враждебно относиться ко всему британскому. Было также и опасение, что при нашей недостаточно сильной оккупационной армии турки могут предпринять попытку переворота в Константинополе, прикрываясь растущей религиозностью. В тот момент мы обдумывали предложение о создании независимого Курдистана, чему турки могли оказать даже вооруженное сопротивление.
Именно поэтому было необходимо не упускать из вида как политические, так и религиозные течения в Турции. Я должен был выяснить, чем занимаются дервиши. Я узнал, что веками дервиши странствовали пешком или с купеческими караванами из конца в конец по всему мусульманскому миру. Любой дервиш на поверку мог оказаться тайным агентом или фанатиком, членом какого-либо политико-религиозного братства. Эти братства были другим важным фактором; самым знаменитым из них считалось Мевлевское братство. Последний султан Мехмед Решад V был почетным членом этого ордена. В течение долгих лет заключения, брошенный в тюрьму Абдулом Хамидом, он поддерживал себя, практикуя суфийский мистицизм под руководством главы Мевлевского ордена, Ахмеда Челеби из Конии.
Итак, я должен был изучить Мевлевский орден и выяснить, есть ли у него ответвления за пределами Малой Азии. Один из моих друзей-турков счел совершенно естественным мое желание посетить мевлевскую текку, или монастырь. Большинство приезжих в Константинополе отправлялись посмотреть на «кружащихся дервишей» в Галата-сарай. Я спросил, увижу ли я там настоящий ритуал. Он ответил: «Ну, нет. Это для любопытных. Наиболее важная текка находится за Адрианопольскими воротами. Туда каждую неделю ходил мерхоум (то есть вошедший в вечный покой) султан Решад». Я предпочел отправиться в текку, расположенную за стенами древнего города. Она была построена на том самом месте, где во времена завоевания Константинополя турками в 1452 году мевлевский дервиш объявил войну византийцам и пробил первую брешь з крепостном валу.
Вечером во вторник ритуалы братства были открыты для посетителей. В тот вечер я был единственным иностранцем, но турок было довольно много. Ритуал назывался Мукабеле, или Встреча, Первым моим впечатлением было чистое восхищение. Я и не подозревал, что такие вещи существуют в мире. С той поры я много раз наблюдал его и получил объяснение мистического значения каждого движения и жеста, поэтому сейчас мне трудно воссоздать самое первое впечатление. В нем не было мыслей или удивления, только чувство глубокого умиротворения и радости, разделяемое всеми присутствующими. Движения дервишей, вначале медленные, становились быстрее и быстрее, словно бы танцующие освобождались от всех мирских забот. Музыка была столь же динамична, как и кружение дервишей.
Мукабеле состоит из трех частей. Она происходит в Сема Хане, что дословно означает «Небесный Дворец». Когда мы вошли, несколько дервишей сидели на полу, скрестив ноги или на коленях. Они были одеты в открытые жакеты поверх белых рубашек, длинные, очень широкие коричневые юбки и высокие шляпы без полей. Талию туго охватывал пояс. Все носили бороды, хотя возраст был самый разный – от восемнадцати до восьмидесяти.
Медленно, со склоненными головами вошли другие дервиши, отвесив глубокий поклон сидящим на полу. Шейх, глава братства, вошел, сопровождаемый двумя приближенными, и остановился под галереей, где сидели музыканты. Последние заиграли веселенькую мелодию, вызывающую картины старой доброй деревенской жизни. Дервиши поднялись, повернулись направо и медленно пошли по кругу. Невысокая перегородка отделяла возвышение, на котором сидели мы, посетители, на ковриках и низких стульях. В одном углу Сема Хане открывалось в место, где находились три или четыре надгробных камня, накрытых расшитыми покрывалами. Это были могилы основателя братства и особенно чтимых дервишей, умерших в этой текке. Проходя перед могилами, каждый дервиш останавливался и склонялся в глубоком поклоне, скрестив руки на сердце.
Эта процессия и музыка символизировали земную жизнь. Мелодия несколько раз менялась, всякий раз заставляя вспоминать о забытой свободной и естественной жизни на земле. Могилы говорили о том, что, живя, мы должны все время помнить о смерти. Кланяясь, дервиш ставил левую ступит на большой палец правой ноги. Это напоминало ему, что нет предела вере и служению господу. Чтобы понять это, нужно было знать легенды, окружающие великого мистика и святого Джелалуддина Руми, основавшего орден в 1246 году нашей эры. Его звали Мауламой, что означает «наш господин», и почитали вторым после Пророка. У него был повар Атеш Баз, известный своей почтительностью. Однажды, когда он готовил плов для Мауламы, закончились дрова, и он сунул в огонь свою правую ногу. Он ничего не обжег, кроме большого пальца. Расценив это как знак, указывающий на несовершенство собственной веры, он, подавая еду, спрятал обгоревший палец под левой ступней. Маулама, мистическому видению которого открылось все происшедшее, позвал дервишей и сказал: «Немногие на земле имеют такую веру, как Атеш Баз. В будущем делайте, как он, чтобы помнить, что в действительности означает вера».
Музыка в Мукабеле исполняется на тростниковой флейте, называемой нэй, в сопровождении ударных и иногда цимбал и кемана, разновидности скрипки. Внезапно раздается лязг всех инструментов, пронзительно вскрикивает нэй, и дервиши застывают. Это символизирует момент смерти.
Музыка начинается вновь, ритмичная, почти ударяющая. Дервиши отвешивают три поклона и начинают вращаться на правой ноге, левой закручивая себя. Молодые кружатся быстро, старые – довольно медленно. Шейх стоит неподвижно, положив обе руки на пупок. Движения таковы, что вся группа из кружащихся дервишей медленно извивается. Создается впечатление точнейшего порядка и одновременно полной свободы. Глаза танцоров закрыты или опущены. Они не обращают внимание друг на друга, но ни разу никто не сбивается, даже когда движения убыстряются. Нет и тени возбуждения или экстаза. Напротив, все переполнено умиротворением.
Так выглядит Мевлевский Зикр, или представление души Богу. В нем выражается пребывание души в раю, когда она оставляет человеческое тело и входит в мир совершенного человека, Ихсан-и-Киамиль. Позднее я сам научился делать Зикр и могу подтвердить, что возникает именно ощущение блаженства, лишенное возбуждения.
Зикр повторялся трижды. На третий раз музыка изменила ритм на четкий и постоянный, менее драматичный, чем предыдущий. В этот раз участвовал сам Шейх. Не знаю почему, я заплакал. Оглянувшись, я увидел, что большинство присутствующих тоже всхлипывают. Зикр закончился, дервиши остановились, трижды поклонились Шейху, который вновь занял свое место, и медленно вышли. Я всматривался в их лица, когда они проходили мимо меня: мне еще ни разу не доводилось видеть таких светлых и безмятежных лиц.
Впечатление было столь сильным, что я попросил позволения прийти снова. Мне сказали, что я могу прийти один, если захочу, в любой вторник, но не стоит приводить с собой европейцев, для которых устраивается специальное представление в Галата-сарае – и музыка там лучше, и пять минут ходьбы до главной улицы Пера.
Постепенно мне объяснили значение ритуала. Они не торопились что-либо рассказывать, но и ничего не скрывали. Тогда я еще не знал, что дервишам запрещено иметь какие-либо секреты, и они должны отвечать на любой заданный вопрос. Они не говорят, когда их не просят, и не скажут больше, чем нужно для ответа. Так как большинство людей не умеют спрашивать, обычно путешественники отзываются о дервишах как о крайне скрытных людях, ревниво оберегающих свои тайны. Когда я привык к их манере ответов на вопросы, я заговорил с одним старым дервишем о том, что я пережил 21 марта 1918 года во Франции. Он внимательно выслушал, задал несколько вопросов, уточняющих детали события, о которых я забыл. Затем он сказал: «Мукабеле приводит нас в подобное состояние, когда исчезает самый страх смерти. Мы знаем, что в момент смерти единственным нашим ощущением будет блаженство. Поэтому все дервиши – храбрые солдаты». Я вспомнил суданскую войну и странный каприз судьбы, которая в последней религиозной битве столкнула храбреца Гордона и дервишей, не боящихся смерти. Однако, чтобы отказаться от страха смерти, нужно действительно ее знать. Возможно, у этих дервишей все же была тайна.
В другой раз я встретился с совершенно другими дервишами. Я слышал о текке Руфаи, о так называемых «воющих дервишах», обитающих на азиатском побережье Босфора и часто посещаемых пилигримами из Персии и Центральной Азии, а также татарами с Волги и из Крыма. Я навел справки, мог ли я сам поехать туда и посмотреть, и выяснил, что момент был самый подходящий, поскольку гостем текки был известный и очень почитаемый шейх из Туркестана, и в его честь вечером во вторник состоится особая Мукабеле.
Зал в этой текке был четырехугольный, обнесенный деревянными стенами, в отличие от восьмиугольного Сема Хана мевлеев. Галерея была поднята над землей, и снаружи в нее вели ступени. Особая галерея, отгороженная частой решеткой, через которую ничего не было видно, занималась женщинами. Поднявшись на галерею и сев вперед, я обнаружил, что ритуал уже начался и довольно давно, возможно, часа три назад. Руфайские дервиши не танцевали, а сидели или стояли на коленях на полу и, раскачиваясь из стороны в сторону, нараспев поизносили имена Аллаха. Музыкальные инструменты отличались от мевлевских большим количеством и грубым звучанием. Только ударных было несколько видов. Мелодии не пробуждали, но стимулировали. Дервиши откликались на музыку размашистыми движениями тела. Когда я вошел, царила атмосфера напряжения и экстаза.
Вскоре раскачивание сменилось необузданными бросками тел из стороны в сторону; дервиши били себя в грудь и рвали волосы и бороды. Имя Аллаха уступило место восклицанию Ya Ни, что означает «О Ты!» Но теперь они скорее хрипели, чем говорили нараспев.
Где-то через полчаса высокий худой человек в одной набедренной повязке встал с пола. Он поклонился шейху текки и спокойно стал в центре зала. Помощники внесли стальные пики с тяжелыми шарами на концах, длинные-гонкие копья и тяжелые цени. Не прекращая раскачиваться и выкрикивать La Нu, дервиши принялись избивать себя цепями, пиками и копьями кололи свои щеки, грудь и бедра. При этом отсутствовало впечатление страха или боли. Старый человек, стоящий в центре, казался единственным спокойным среди дикого возбуждения.
Не желая стать жертвой галлюцинации или внушения, я выскользнул из зала, решив, что, вернувшись через несколько минут, смогу трезво и холодно взглянуть на происходящее.
События продолжали развиваться. Два дервиша внесли огромную кривую саблю и пали ниц перед Каббой, нишей в тени, указывающей направление в сторону Мекки. Старик в центре спокойно лег спиной на деревянный пол, взял саблю, пальцем попробовал острие и положил ее острым краем себе поперек живота, а затем глубоко вонзил ее в свои тощие бока. Мгновенно настала глубокая тишина, и шейх монастыря шагнул вперед и встал на саблю, опираясь на двух дервишей, которые, дрожа всем телом, бормотали: «Allah-u-Akbar» («Бог Велик».) Казалось, сабля уперлась в пол, а тело разрублено на две части.
Участники этой сцены словно бы застыли в трепетной тишине. Наконец шейх тихо сошел г сабли. Старик, не двигая телом, поднял саблю обеими руками. Затем большим пальцем он провел по телу там, где была сабля, и встал. Все увидели, что на теле не осталось ни царапины.
Присутствующие, охваченные неописуемым чувством, дрожали. Стояла полнейшая тишина. Саблю вывесили на всеобщее обозрение. Дервиши выстроились для последней священной мусульманской молитвы. Мои друзья-турки спустились вниз и присоединились к ним. Эта последняя молитва самая длинная, состоит из тринадцати рикаас, или двойных падений ниц, и продолжается около двадцати минут. Ощущение было двоякое: силы и умиротворения. Я остался один в галерее и задумался. После ритуала приятель, приведший меня сюда, позвал меня вниз осмотреть саблю, которая, вне всякого сомнения, была той самой. На ней не осталось следов крови, и она была острой, как бритва. Я никак не мог объяснить то, что я видел. С тех пор я много раз наблюдал подобные демонстрации и не сомневаюсь, что возможно путем особых упражнений приобрести экстраординарную власть над человеческим телом.
Мусульманская религия начинала очень интересовать меня. Мальчиком я разочаровался в христианской религии из-за постоянных склок и раздоров вокруг нее. В школе у нас было два преподавателя Божественного, один из высокой и другой из низкой англиканской церкви. Первый был мягким глупым старым священником, но второй оказался непримиримым фанатиком. О Римской католической церкви он говорил такое, что нельзя слушать школьникам. С большим удовольствием мы слушали миссионеров-проповедников, которые с потрясающей уверенностью в своей правоте вещали о несчастных язычниках и их бедственном состоянии. Я, как и многие мои товарищи, был не прочь оказаться язычником. Когда я рассказал об этом родителям, мать, всегда ненавидевшая лицемерие, заметила: «Большинство англичан – лицемеры, особенно английские священники». Отец добавил: «С религией было бы все в порядке, если бы не было священников и миссионеров, причем последние – наибольшее зло». Мальчиком он учился в Лэнсинг-колледже и испытывал религиозное давление. С тех пор он невзлюбил любую провозглашенную религию и сделал все возможное, чтобы защитить нас, детей, от навязывания нам определенных верований, против которых впоследствии мы могли бы протестовать.
Поразительно, но я вырос без ощущения реальности христианства. Готовясь к конфирмации, я поставил в тупик викария вопросами о конфликтах между церквями и оправданием миссионерства. Я ничего не понимал в Евангелиях и ходил в церковь, чтобы угодить остальным. В то время я еще не встретил никого, священника или мирянина, который бы обладал истинной верой и руководствовался ею в своей жизни.
С мусульманами дело обстояло иначе. Будучи столь же несовершенными, как и все люди, многие из них действительно верили в Бога. Однажды, будучи проездом в Истамбуле, я отправился к министру юстиции, имеющему репутацию честного и мужественного человека, с которым я не был знаком прежде. Шесть капельдинеров во фраках возвестили о моем приходе. Начался обмен обычными для Турции любезностями, как вдруг, взглянув на министра, я понял, что неоднократно встречался с ним. Увидев мое изумление, он рассмеялся. «Я видел Вас в прошлый вторник в текке Эдирн Капое». Тут я понял, что он был одним из дервишей и я видел его, исполняющим мевлевский ритуал. Мы подружились, и от него я узнал множество интересных вещей о мусульманской вере и суфийском мистицизме.
Такое сочетание мистицизма и практичности было нередким в Турции времен Оттоманской Империи. Я частенько навещал пожилого человека, в прошлом камергера султана Абдула Хамида, который жил над Босфором в Тчамлиджи. Как-то раз он сказал мне: «Разница между азиатами и европейцами в том, что мы не верим в возможность немедленных изменений, а вы полагаете, что на дьявольском дереве может вырасти добрый плод. Мы говорим: def i mefasid celb menafiden evla dir, что означает «сперва нужно изгнать дьявола, а потом придет добро». А вы бы сказали «добро должно прийти, поэтому дьявол может быть изгнан». Обе точки зрения верны, но пока мы не поймем, что они различны, мы не сможем договориться».
В тот год месяц поста, рамазан, пришелся на июль. Я решил попробовать поститься, что означало не есть, не пить и не курить от восхода до заката. Неделю я продержался, но это начало отражаться на моей работе. Еще до полудня яуставал и становился раздражительным. Я заметил, что многие турки соблюдают пост, но ужасно объедаются после захода и до восхода солнца. Они стали еще более раздражительными, чем я, особенно из-за невозможности курить. Однако, нельзя было отрицать тот факт, что вся жизнь в Константинополе во время рамазана изменилась. Ничего подобного я никогда не наблюдал в христианских городах и должен признать, что, в целом, мусульмане относятся к своей религии более серьезно, чем большинство христиан. Вполне обычным было, например, закрытие магазина по той причине, что его владелец ушел в мечеть на полуденную молитву.
Двадцать седьмая ночь рамазана называется Leyl-ul-Kadir, или Ночь Силы. Согласно мусульманским верованиям, в эту ночь Бог посылает на землю архангела Гавриила спасать человеческие души. Тот, кто в этот момент искренне предан Господу, будет спасен, и его имя запишут в книгу обитателей Рая.
В эту ночь меня пригласили посмотреть на моления в Святую Софию, одно из самых больших замкнутых помещений в мире. Мне рассказали, что там помещаются более десяти тысяч человек. На галереях собираются женщины, а западная галереи оставляется для посетителей. В течение трех или четырех часов люди ходили туда-сюда, молились в одиночку или тихо сидели небольшими группами. В полночь раздался громкий призыв муэдзина. Люди встали плечом к плечу. Крик «Allah-u-Akbar!» был подобен раскату грома. Десять тысяч голов, ударившихся об пол, когда люди простерлись ниц, заставили здание содрогнуться. Ни один из присутствующих не мог устоять перед воздействием такого богослужения. Молящиеся шесть раз падали ниц одновременно и семь раз каждый сам по себе. Все действие вызывало странное ощущение призывания силы. В этот момент можно было увидеть тень Архангела над ними. После молитвы все медленно расходились; большинство осталось в мечети в ожидании окончания поста.
Какую пользуя мог из этого извлечь? Все, что я увидел, произвело на меня глубочайшее впечатление. Но что изменилось? Завтра они будут такими же, как и вчера, движимые все теми же человеческими страстями и слабостями. Мысленно я увидел Рим и тысячные толпы, кричащие во время Пасхи: «Вот он, Петр!» Мужчины и женщины обливались слезами, и, казалось, небеса разверзлись. Разве это было не то же самое? Разве не возвращались они прежними домой к прежней же жизни?
Я вышел на воздух. Истамбул был залит светом масляных ламп и свечей, установленных на минаретах, на крышах, везде. Этот несравненно прекрасный город умирал. Вскоре в Йилдизе не будет жить султан. Я даже не догадывался, насколько грандиозными будут перемены, как скоро исчезнут мужские фески и женские вуали. Скоро муэдзины позовут на молитву верующих в шляпах с полями по приказу диктатора еврейского происхождения. Скоро с улиц исчезнут дервиши, закроются текки, а наиболее выдающиеся граждане будут изгнаны.
Я был свидетелем гибели Эпохи, но не догадывался об этом. Куда мне идти? Я написал коллеге в Оксфорд, что не вернусь к занятиям. Меня направляли в штабной колледж, но я теперь знал, что военная карьера для меня немыслима. Я не мог все бросить и стать дервишем. Дервиши принадлежали умирающему миру. Они служили напоминанием, что когда-то человек умел жить полной внутренней жизнью и не менее полной жизнью во внешнем мире. Но было слишком ясно, что древний огонь погас.
Не было никого, с кем бы я мог посоветоваться. Я заметил, что повторяю Двустишие из газели Физули, величайшего турецкого поэта: Dost bi perva, felek bi rahm, devran bi sukyun Derd cok, hemderd yok, dusmen kavi, tali zubun Sayei umid za’il, afitab-zevk kerim Rutbeyi idbar ali, paye-i-tedbir dun.
Друзья не разделяют моих чувств, небеса не слышат мой плач, и катящиеся шары никогда не останавливаются.
У меня множество горестей и нет утешения, много врагов, и судьба сломила мою волю.
Настанет ли когда-нибудь рассвет? Тень надежды становится все длиннее, Мои устремления высоки; но жалки и грубы мои возможности.
Я шел в толпе вниз по улицам Блистательной Потры, мимо Капали Тчарши, огромного истамбульского рынка, к мечети Баязида и Военному министерству. Здесь я начал работать пятнадцать месяцев назад, не подозревая о том, что произойдет со мной за столь короткое время. Моя семья была далеко, и я почти забыл о ее существовании. У меня больше не было дома.
Повернув на север, я шел, пока не достиг мечети Сулеймана. Немного найдется в мире зданий., более впечатляющих, чем этот шедевр Синана из Каусери, построившего тысячу мечетей и дворцов. Здесь, как нигде больше, искусно сочетается величие храма с окружающими небольшими постройками. Вот гармония, нерушимое величие произведения искусства.
Вопрос, стоящий за строчками Физули, не давал мне покоя. Где rutbeyi idbar – высота моих устремлений? Чего я в действительности хочу от жизни?
Вопросы мучили меня, сердце было почти разбито давящей пустотой. Но вскоре мой разум, привыкший искать формулировки, принялся спасать сам себя. Нашлись принципы, которые я не мог оспаривать. Я ходил по пустому двору Сулейманской мечети, пока не оформил их в слова.
Во-первых, что касается меня самого. Я, несомненно, самый обычный человек с глубокими недостатками, как и все остальные. Я никогда не позволю себе считать себя не таким, как все, или лучшим, чем все. Конечно, я могу отличаться от других, но почему я прав, а они заблуждаются? Каждое человеческое существо, насколько я знал, считает себя центром мира. И я тоже такой. Поэтому я не могу доверять своим заключениям относительно себя самого. Тщеславие и себялюбие – вот злейшие враги человечества, и, в конце концов, я могу с ним бороться.
Какой помощи мне искать? Что может дать мне религия? Все, что я видел, было взаимное неприятие, отрицание другой истины, другой веры. Я не мог допустить, чтобы одна религия была подлинной и несла всю истину. Я не мог обратиться за помощью к тем, кто жил неприятием, от которого я хотел избавиться. Но надо было принять во внимание вероятность. Возможно ли, чтобы несколько миллионов человек обладали истиной, а оставшиеся десятки миллионов были лишены ее? Этот аргумент относился и к христианству, и к исламу, к религиям Запада и Востока. Я поклялся, что буду без устали искать одну Истину и одну Веру, примиряющую все религии.
Вновь возник вопрос дома. Где же мой дом? В Англии, где я родился? В Америке, откуда родом моя мать? В Турции, где мне так легко? Или где-то в Азии, там, где и есть тот источник истины, о котором я пока еще ничего не знаю? Почему я горжусь тем, что я англичанин? Целыми днями я сталкивался с самыми различными национальностями: англичанами, французами, итальянцами, греками, армянами, турками, курдами, русскими, арабами, евреями и людьми столь смешанной крови, что они словно бы вообще не имели национальности. Каждый был уверен в превосходстве своего народа. Но как один может быть прав, а все остальные неправы? Это чепуха. Нет лучших и худших наций, любимых и нелюбимых народов. Я должен отказаться от чувства, что я англичанин, и потому самый лучший. Наконец я нашел истину, которую принял, не колеблясь: человечество состоит из одной неделимой расы, и прежде всего я должен жить как человек.
Меня охватило чувство умиротворенности и завершенности. Я rutbeyi idbar -достиг цели. Я хотел стать человеком, свободным от тщеславия и себялюбия, найти источник всех религий и единства человечества. Как обычно, моментально возникло возражение. Все это прекрасно, и можно записать эти слова и пронести их через всю жизнь. Но ни я, ни кто-нибудь еще ничего не можем сделать – все мы мазаны одним миром.
Есть ли мы вообще? Неужели не было никого, кто мог бы помочь? Впервые идея поиска возникла в моем сознании. Нужно что-то найти, прежде чем что-то делать.
Внезапно я очнулся. В конторе меня ждали люди: тайные агенты, никогда не приходящие раньше, чем за полночь. За пару часов я должен был составить еженедельное донесение, которое кто-то обозвал «лучшая туалетная бумага Беннетта для скучающих зануд», эта шутка дошла до проверяющих офицеров и отдаленных постов на всем Ближнем Востоке.
Я взобрался на арбу – повозку, запряженную двумя лошадьми, все еще остававшуюся основным средством передвижения в турецких городах, – и поехал обратно в Хагопиан Хан. Ничего не произошло, но все изменилось.
Глава 4
Князь Сабахеддин и миссис Бьюмон
Как только у меня находилась пара свободных часов, я занимался турецким и персидским с курдом Авни-беем. Очень высокий, очень худой, очень бедный и очень образованный, он был потомком великого Бедерхана, чем чрезвычайно гордился. Он писал стихи на турецком, персидском и даже курдском -языке, который едва ли можно считать литературным. Его приводил в восхищение современник Вильяма Шекспира – турецкий поэт Физули, по мнению моего учителя, ни в чем не уступавший знаменитому англичанину. Я не разделял этого убеждения. Физули, равно как и другие исламские поэты, был мистиком, которого едва ли интересовали земные черты человеческой природы. Вся его поэзия строилась на словесной утонченности и многозначности, поэтому практически непереводима на другой язык. Я попробовал было передать смысл его часто цитируемых строк:
Jani janan dilemis:
vermrmk olmaz ey dil
Ne reva eyleyelim:
ol ne senindir ne benim.
Душа всех душ умоляла мою душу.
Скажи мне, сердце,
покоримся ли мы нашей душе?
Что толку предаваться тяжким мыслям и тоске?
Ведь эта душа и не моя, и не твоя.
Авни-бей познакомил меня с современными поэтами и писателями; особенно он хотел, чтобы я насладился последним цветением исчезающей старой оттоманской культуры. Он пригласил меня на празднование Шекер Байрама, Ид-уль-Фитр по-турецки, в дом богатого лазского купца.
Наш хозяин оказался старой закалки мусульманином с четырьмя женами и богатым убранством дома. Женщины находились в гареме, в празднике участвовали только мужчины: от совсем юных до седобородых старцев. Согласно старой традиции, двери были открыты для всех желающих, и даже специально пригласили нескольких нищих, крайне оборванных и грязных.
Трапеза также была выдержана в строгом мусульманском стиле. Еду подавали слуги-мужчины, круглые лепешки мягкого пресного хлеба служили тарелками; для пищи слишком жидкой, чтобы есть ее руками, использовались куски тех же лепешек. Разумеется, на столе не было и капли спиртного, однако подали несколько различных шербетов, охлажденных в снегу, специально сохраняемом с зимы.
Каждый, кто бывал на Востоке, знает, что тамошние застолья представляют собой своеобразные циклы: когда вроде бы трапеза подходит к концу, все начинается Сначала. Пловы с курятиной, бараниной, рыбой и разнообразные овощные блюда сменяются очень сладкой выпечкой и сиропами, затем слуги приносят еще плов, возможно, другого цвета, и круг возобновляется. Только очень дурно воспитанный гость может отказаться от какого-нибудь блюда, поэтому на первых порах необходимо соблюдать крайнюю умеренность.
Один из зазванных нищих все время шутил, – возможно, род его занятий состоял в развлечении гостей. Он пересказывал истории хаджи Насредцина -турецкого Тиля Уленшпигеля – вперемешку с пикантными сплетнями о наиболее известных горожанах. Смеялись далеко не всегда: кто знает, где и когда этот смех мог быть услышан!
После трапезы заиграла музыка. Лучшими певцами в Турции считаются муэдзины; особенным успехом пользуются служители больших мечетей. В этот вечер среди гостей был наиболее известный из них- Фуреддин Фари из голубой мечети султана Ахмеда. К этому моменту очарование традиционной турецкой музыки уже покорило меня, но еще никогда я не присутствовал на поэтической и музыкальной импровизации, которая считается высшей формой искусства в Курдистане, на Кавказе и в северной Персии. Я даже не знал, что с ней можно встретиться в Константинополе.
Приглашены были несколько известных музыкантов и поэтов. Во время всего праздника обсуждалась достаточно отвлеченная тема о мистическом содержании некоторых произведений турецкой поэзии. Не меняя темы, наш хозяин попросил одного из поэтов выразить то, о чем говорилось, в стихах. Музыканты молча взялись за инструменты. Два-три слова о подходящем для темы стиле исполнения – и полилась речь муэдзина. Это было настоящее действо, спонтанное и очень волнующее. Отклик слушателей поистине переходил все границы. Все вздыхали или стонали, половина гостей рыдала, некоторые, подергиваясь, попадали на пол с криками «Машаллах!» и другими признаками экстаза.
Певец закончил, и воцарилась глубокая тишина, прерываемая глубочайшими вздохами. Представление повторялось несколько раз. Затем обсуждение, в которое музыка непонятным образом внесла некоторую ясность, возобновилось.
Азиаты, чей вкус не испорчен веяниями Запада, воспринимают музыку совсем не так, как европейцы. Для них это интимнейшее событие. Современные концертные залы разрушили то воздействие, которое и наша музыка имела до девятнадцатого века. Но не только музыка проникала так глубоко, все празднество и каждая его часть следовали ритуалу.
Я заговорил об этом и спросил мнения присутствующих. Один сказал, что европейцы каждый вопрос пропускают через ум, отвергая внутреннее состояние сознания, стоящее за этим вопросом. «Вы гораздо более преуспели в общественной жизни, мы восхищаемся вашими техническими достижениями и политическими институтами, но гораздо меньше, чем мы, вы осведомлены о внутренней жизни. Вы воображаете, что знаете, как жить, понимаете, что такое радость и страдание, но даже представления не имеете о Хале (это психическое состояние), который испытываем мы, слушая такую музыку». Другой, более старший турок, похвалил французскую культуру, сказав, что Турция многим обязана Франции. По его мнению, французская культура в основе своей содержит принцип соответствия, которого лишены британцы и немцы. Молодой человек с непонятным акцентом вмешался в разговор, воскликнув: «Величайшая культура в мире – это англо-саксонская. Ни одна другая нация не достигла такого уважения к индивидуальности в сочетании с выраженным социальным сознанием. Мы, турки, должны ориентироваться в общественном и политическом плане на Британию». Его энтузиазм тут же вызвал дискуссию, и я быстро потерял нить обсуждения.
Перед уходом молодой человек подошел ко мне и предложил познакомиться с его руководителем и другом, князем Сабахеддином, оплотом турецкого либерализма. Сабахеддин, племянник царствующего султана, был сыном известного турецкого реформатора Дамад Махмуд-паши, изгнанного из страны за сопротивление деспотизму Абдулы Хамида.
Я не принял предложения молодого человека и не запомнил его имени. Но что предопределено, то предопределено, и Парки всегда имеют больше одного гроша в кармане. Через несколько недель я вновь услышал имя князя Сабахеддина, на сей раз от Сатвет Люфти-бея, активного сторонника союзников, пришедшего ко мне депутатом от ошибочно арестованных. Настойчивость, с которой Люфти-бей советовал мне встретиться с князем, победила мою неохоту, и мы договорились о совместном обеде в следующую среду.
События, похожие на обычные случайности, позже служат доказательством наличия паттерна, определяющего нашу жизнь. В следующую среду, по горло занятый делами, я забыл о приглашении. Я готовил доклад, целью которого было убедить Британскую Ставку в том, что мощь турецкой армии в Анатолии существенно ослабла. Я как раз получил фотографии железнодорожных мастерских в Эскишехире, о которых я уже упоминал. Когда за мной заехал Сатвет Люфти-бей, некая внутренняя необходимость заставила меня отложить все дела и отправиться в Куру Чешм. Сатвет Люфти-бей рассказал, что он дружен с князем Сабахеддином с 1908 года, когда, еще будучи студентом-юристом, он участвовал в революции против султана Абдулы Хамида. Затем он был заключен в тюрьму Младо-Турками, откуда ему удалось бежать во Францию. Князь стойко противился войне, но отказался участвовать в любых заговорах против Унионистского правительства Талаат-паши. Несмотря на это, Сатвет Люфти был против своей воли втянут в несколько заговоров и чудом спасся, дважды приговоренный к смерти. Он был боснийцем, сербским мусульманином, то есть принадлежал к народу, славящемуся отвагой и верностью. Кроме того, это был самый щедрый человек, которого я когда-либо знал.
КуРУ Чешм не был настоящим дворцом, а просто большой виллой над Босфором. Сейчас ее уже нет, а на ее месте построили нефтехранилища. Лакей, который нас встречал, был облачен в ливрею, но бедность, скорее ощущаемая, нежели видимая, витала в воздухе. Нас проводили в типичную турецкую гостиную, обставленную потертой мебелью в стиле ампир. Прошло несколько минут, и на пороге показалась маленькая фигурка. Сабахеддин был едва ли не самым низеньким и тщедушным из всех знакомых мне людей, но незыблемое достоинство и величественные манеры не оставляли сомнений в том, что перед вами не обычный маленький князек. Он в совершенстве владел французским и предпочитал его турецкому. Традиционный сюртук хорошо подходил к его феске. Глядя на его изысканные манеры, я с тревогой предчувствовал вечер, отданный светским беседам.
Князь был вегетарианцем, но, в отличие от многих мусульман, пил вино. Для меня он заказал знаменитый турецкий деликатес – черкесский тавук -куриную грудинку с соусом из грецких орехов.
Мои тревоги оказались напрасными: Сабахеддин был совершенно лишен той вельможной помпезности, которой я так опасался. Хорошо осведомленный, возможно, от Салвет Люфти о моей деятельности, он не позволял разговору затронуть какой-либо посторонний предмет. Вскоре обнаружился его конек: важность поощрения частной инициативы в общественном устройстве. Впервые я услышал о Фредерике ле Плее и Эдмонде Десмолинсе и о Школе общественных наук. Сабахеддин рассказывал чудесно, я с удовольствием наблюдал за тем, как движения его тонких маленьких рук иллюстрировали тот или иной тезис. В общем, предмет разговора был новым для меня, но я хорошо понимал, с каким трудом турки, привыкшие к жесткому централизованному управлению, смогут оценить Тешебус-и-шаси, частную инициативу. Совершенно неудивительно, что князь сидит в одиночестве в Куру Чешме, окруженный книгами и осуждаемый как Оттоманской Портой, так и Национальным правительством в Анкаре. Прошло еще сорок лет, пока его соотечественники смогли услышать его советы и изучить его теории. Но к тому моменту его уже десять лет не было в живых.
Я собрался уходить, князь предложил мне встретиться вновь. Он говорил искренне, и я согласился. Вскоре обеды по средам в Куру Чешме стали частью моей жизни. Кажется, это был октябрь 1920 года. Через много лет Сатвет Люфти рассказал мне, что князь неохотно согласился познакомиться со мной, но после нашей первой встречи сказал: «Cejeune homme est un genue; je n’ai jamais recontre un esprit plus fin..». («Гениальный молодой человек,- я никогда не встречал ум более тонкий, но он должен обрести дух и определить свою Цель».)
Сабахеддин взял на себя обязательство восполнить пробелы в моем образовании. Он снабдил меня книгами и практически обязал меня к чтению, обсуждая их на следующей встрече. Одной из первых была книга Эдуарда Шуре «Les Grands Inities», которая потрясла меня утверждением, что все религии суть одна, а противоречия проистекают только от нашего несовершенного понимания. Эта точка зрения была очень близка мне, и я сразу захотел узнать больше. Сабахеддин рассказал мне о Рудольфе Штайнере, своем близком друге, и о его теософском и антропософском учении. Он говорил об ищущих истину, таких, как оккультист Чарльз Ланселин, с которым князь познакомился во Франции.
Я заинтересовался доказательствами этих замечательных идей, и в ответ Сабахеддин рассказал мне об экспериментах по гипнозу и самовнушению, позволяющих людям исследовать невидимый мир. Он дал мне книгу полковника де Роше, которого он знал пятнадцать лет назад в Париже.
Наши встречи с Сабахеддином вновь оживили вопросы и надежды, возникшие в связи тем, что мне довелось пережить на временной очистительной станции 21 марта 1918 года. Тем не менее, моя работа отнимала много времени и его не хватало для серьезного чтения всех тех книг, которые давал мне Сабахеддин.
С Куру Чешм связаны два события, полностью изменившие мою жизнь. Там я встретил даму, ставшую моей женой и соратником на последующие 40 лет, и Гурджиева, идеи и учение которого дали главное направление моей внутренней жизни.
Однажды вечером князь сообщил мне, что хочет пригласить англичанку, миссис Винифред Бьюмон, знакомство с которой он свел в Швейцарии во время войны. Она приехала в Турцию в качестве компаньонки его единственной дочери, княжны Фети. Фети хорошо знали в Костантинополе благодаря ее полному освобождению от традиционной жизни в серале. Дочь никогда не присутствовала на вечерних обедах отца, и я не видел ее, так же мало я хотел знакомиться с этой англичанкой. С головой окунувшись в турецкие дела, я никоим образом не общался с узким кругом англичан, естественно, открытым для офицеров. Я вообще не хотел слышать об Англии. Моя собственная семья – жена и малышка дочь – так мало значили для меня, для чего же мне было вспоминать Англию?
Но отказать князю было невозможно. Он, очевидно, рассчитывал на мое согласие, поэтому в следующую среду я отправлялся в Куру Чешм, уповая на то, что одной встречи будет достаточно для Сабахеддина. Когда я вошел в гостиную, она уже была там. Даже на первый взгляд ее достоинство не уступало манерам князя. Перед ними я чувствовал себя гошем. Она заговорила, и ее голос вернул мне уверенность. Голос шел от одного человека к другому, не так, как голоса большинства людей – мимо. Он возрождал жизнь и надежды. Наконец, я смог рассмотреть ее лицо, прекрасное, с печальными глазами. Ее волосы были седыми, а фигура по-юношески стройной. Глаза карие, теплые, под стать голосу.
В тот вечер она говорила немного, но ее присутствие по-новому осветило нашу беседу. До этого я просто с интересом слушал рассказы князя. Теперь они впервые затронули меня: я слушал как бы изнутри, а не снаружи. Я совершенно не понимал, что со мной происходит. Позже князь рассказал мне, что он зовет ее ГАПитепсе – та, которая зажигает огонь, – слово точно отражающее чувство, охватившее меня в тот вечер.
У нее не было машины, поэтому я отвез ее домой. Она жила в Матчке, на другом конце Ру де Пера от Хагопиан Хана, где жил я. По дороге она
призналась, что вначале отказывалась встречаться со мной так же, как держалась подальше от британских офицеров и вообще всего британского. Она приехала в Турцию, чтобы забыть Англию; почему, она не сказала. Я абсолютно не чувствовал робости, которая сковывала меня рядом с другими женщинами. Казалось, мы были знакомы очень давно и вот снова встретились.
Всю неделю я не мог не думать о ней, очень надеясь, что она будет на обеде у Сабахеддина, поскольку я не спросил, могу ли я навестить ее. Возможно, со стороны это выглядит очень естественно, но мне было странно, что кто-то или что-то смогло оторвать меня от разведывательной службы, которой я был весьма предан.
На следующей неделе мы встретились у Сабахеддина. Привычка князя не излагать собственных убеждений куда-то исчезла, и он заговорил об Иисусе Христе и так, как никогда не говорил прежде. Разумеется, он был по воспитанию мусульманином. Он изучал западные религии, особенно буддизм, но истинный смысл открылся ему только при изучении христианства. Его лицо светилось, когда он рассказывал о любви Иисуса к человечеству. Божественная Любовь была для него реальностью в отличие от того христианского священника, который пытался объяснить мне смысл христианской веры. Миссис Бьюмон была явно рада слышать его слова, помогая ему верными замечаниями. Ислам, говорил он, великая и благородная религия,, и он никогда не отрицал ее центральной догмы – Единственности и Уникальности Бога. Святая Девственница была столь же реальна, как и Иисус, Сын Божий. Только не надо забывать, что никто и никогда не знал и не знает истинный смысл этой связи «Сын Бога».
Я был потрясен. Никогда раньше я не воспринимал религию всерьез. На следующий день я все еще помнил почти каждое его слово. Но к концу недели впечатление померкло. Только позднее я понял – вера не передается от одного человека другому. Меня действительно потрясли слова князя, но они не достигли глубин моего существа. Оглядываясь назад, я сейчас с волнением вспоминаю тот разговор, на много лет затерявшийся в памяти.
На той же неделе я вновь повстречал миссис Бьюмон, но при совсем других обстоятельствах. Это случилось благодаря тому, что мне частенько приходилось заботиться о различных приезжих, оказавшихся в Константинополе либо с наблюдательской миссией, либо просто для удовлетворения собственного любопытства. Мое знание города и языка в сочетании с постоянным взваливанием на себя большего количества дел, чем я мог исполнить, делали меня легкой мишенью для нежеланной работы. Иногда это было даже интересно, например, когда я был переводчиком у Дарданеллской комиссии, прибывшей в Турцию для отчета о высадке в 1аллиполе. На сей раз мне поручили помочь делегации Второго Интернационала, которая направлялась в Тифлис для переговоров с Социалистическим Демократическим правительством Грузии.
Незадолго до этого британская пехотная бригада, посланная после перемирия для охраны бакинского нефтепровода, была выведена из Батуми, главного морского порта Грузии. По моему тогдашнему разумению, это стандартное решение было принято в Лондоне ложно информированной контрразведкой без учета реальных обстоятельств. Я был убежден, пока британская бригада или даже батальон, остается на Кавказе, правительства трех главных государств – Азербайджана, Грузии и Армении смогут противостоять давлению российского коммунизма и сохранить свою независимость. Девятого июля 1920 года пехотинцы ушли, и уже через четыре недели грузинское правительство сообщило союзникам, что не может противодействовать большевистской пропаганде. В то же время через одного доверенного агента мне пришло странное предложение. Главную угрозу грузинской независимости представляла деятельность большевистского комиссара, армянина по национальности. Тайное армянское общество готовило его убийство, чтобы предотвратить захват Армении русскими, и просило нашей помощи по укрытию тех, кто будет в нем замешан. Я послал соответствующий доклад, ответ на который был скорым и коротким: «Правительство Его Величества никогда не’одобрит политического убийства».
Ситуация складывалась курьезная, почти комическая. Второй Интернационал, во время и после войны ославленный правительствами союзников как пацифистский и подрывной орган, теперь играл роль чуть ли не спасителя кавказской демократии. На февральском съезде в Берне в 1919 году были приняты резолюции, осуждающие большевизм, и постановлено послать в Россию «инспекционную комиссию». Прошло полтора года, прежде чем, уже в практически безнадежной ситуации, союзники наделили комиссию соответствующими полномочиями и отправили на Кавказ в надежде, что она будет способствовать укреплению позиций грузинского правительства. Но тень пацифизма еще витала в воздухе, и мне были даны несколько противоречивые указания во всем помогать комиссии, в то же время оставаясь на чеку.
Я пошел встречать корабль, на котором прибывала делегация. К своему удивлению, на посыльном судне я встретил миссис Бьюмон и узнал, что она была тесно связана с бернским съездом и знакома с большинством делегатов, среди которых находились Артур Хендерсон, Камилл Хьюсманс, Вандервельд, Филип и миссис Сноуден, Бернштейн и другие известные лидеры европейского социалистического движения. Кое-какие необходимые формальности заняли несколько дней, и в это время я показывал им городские достопримечательности. Практические все они были знакомы с князем Сабахеддином, и в Куру Чешме было устроено что-то вроде частного приема, на котором меня расспрашивали об обстановке в Турции и на Кавказе. Делегаты мне очень понравились. Камилл Хьюсманс был выдающейся фигурой; кроме того, он и его дочь Сара, также приглашенная на вечеринку, были близкими друзьями миссис Бьюмон. Я не мог избавиться от ощущения, что эти люди, твердо верящие в свои принципы и руководствующиеся ими, заслуживали большего доверия, чем лидеры союзников, движимые мелкими эгоистическими интересами.
Одним из последствий этих встреч стало мое растущее увлечение миссис Бьюмон. Меня глубоко потрясло ее умение зажечь энтузиазм в членах этой делегации, прибывших в Турцию озадаченными и подозрительными и уезжавшими в Батуми с обновленным ощущением значимости собственной миссии.
Еще до этого я стал частым гостем в доме миссис Бьюмон и вскоре совершенно естественно переселился к ней. С собой я перевез своего турецкого денщика Мевлуда, наичестнейшего из всех известных мне когда-либо слуг. Его единственным недостатком была алчность к хлебу. За общим столом нас снабжали очень грубым хлебом, который не подавали офицерам. Так, каждый день Мевлуду доставались пять или шесть больших буханок, которые он съедал почти до крошки. Турецкие солдаты не видели мяса, но их потрясающая выносливость позволяла им воевать практически на голодном пайке. И если им перепадала какая-то еда в неограниченном количестве, они не могли остановиться.
Мевлуд никогда не позволял мне ходить ночью одному, куда бы я ни пошел, он спокойно дожидался меня за дверью при любой погоде, следя, чтобыникто не устроил на меня засаду. Он был убежден: я окружен врагами, жаждущими моей смерти. Возможно, он действительно спас мою жизнь: время от времени я получал письма с угрозами, но никогда не принимал их всерьез. Он полностью доверял миссис Бьюмон, и совместными усилиями они весьма украсили мой доселе печально неустроенный быт.
С первой нашей встречи я не сомневался, что наши жизни соединены. Мы смогли пожениться только в 1925 году после многих приключений. Они с князем серьезно говорили обо мне. Он назвал меня notre infant genial (наш гениальный ребенок) и высказал убежденность, что в будущем меня ждет особая role. Он надеялся, что она поддержит мой поиск глубинной реальности и не допустит, чтобы я слепо рвался к успеху.
Подгоняемый ее заинтересованностью, я возобновил свои математические изыскания. Они касались проблемы духовной свободной воли и материального детерминизма. Оглядываясь назад, я не могу понять, почему этот вопрос так захватил меня. Конечно, я был движим осознанием нашей принадлежности Двум мирам: видимому, измеримому и познаваемому, и невидимому, скорее ощущаемому, чем зримому. Поскольку я принадлежал к обоим мирам, они должны были быть совместимыми и каким-то образом связанными, но я не мог сказать, каким. Мне казалось, что люди очень легко соглашаются с очевидным. С одной стороны, физика и биология с их строго механистическим подходом не оставили места в мире для свободной воли, разве только путем неких уклончивостей и уверток. С другой стороны, мораль делала необходимым наличие ответственности и свободы, а религия шла еще дальше, требуя веры в тайный мир, где свободы самой по себе было недостаточно. Принимая основные положения современной науки, религии приходилось изворачиваться не меньше, чем другой стороне. Беда была в том, что все эти вопросы и противоречия были и во мне, и я не мог не искать решения.
Как-то я получил из Англии пачку научных статей, среди которых была работа Альберта Эйнштейна о светоносном эфире. В ней обсуждалось существование некоего материального эфира и было показано, что если он существует, то обладает вроде бы невозможной способностью распространяться во всех направлениях одновременно, передвигаясь при этом со скоростью света. Меня потрясло это предположение. Эйнштейн приводил его в качестве доказательства нематериальности такого эфира, я же задумался над его геометрическим смыслом. Как такие свойства можно представить геометрически?
Этим вечером, уже в сумерки, я возвращался в свою контору, где меня ждала работа над несколькими докладами. На пути мимо госпиталя Franchet d’Esperey я неожиданно нашел решение. Это было похоже на удар электрического тока. В одно мгновения я увидел совершенно новый мир. Поток мыслей был слишком стремителен, чтобы быть облеченным в слова, но примерно они звучали так: «Если существует пятое измерение, непохожее на пространство, но подобное времени, оно содержит необходимые возможности. Любое вещество в этом измерении с нашей точки зрения будет передвигаться со скоростью света. И, более того, во всех направлениях сразу. Вот в чем решение загадки Эйнштейна. Если так, пятое измерение столь же реально, как и знакомые нам пространство и время. Но сверхстепень свободы, заключенная в пятом измерении, открывает все возможности. Время само по себе не единственно, то есть существует более одного времени, а значит, и более одного будущего. Множество времен подразумевают выбор между ними. Каждая линия времени содержит строгую последовательность событий, но, переходя с одной линии на другую, мы обретаем свободу. Как пассажир, путешествующий по железной дороге: пока он едет в одном поезде, направление его пути предопределено. Но на станции он может пересесть в другой поезд и изменить предопределение».
Пока эти слова проносились у меня в голове, я понял, что и моя загадка свободной воли и детерминизма может быть разрешена с помощью пятого измерения.
Я был столь взволнован этими открытиями, что как бы поднялся нам самим собой, и тут я увидел или, скорее, осознал следующую картину. Мне представилась огромная сфера, и я понял, что это вся Вселенная, в которой мы живем – вселенная, доступная восприятию. Внутри сферы сгущался мрак, тогда как снаружи по мере удаления от нее становилось все светлее и светлее. Я видел существ, которые со сферы существования падали во тьму, другие светлые, яркие формы опускались на нее снаружи. Я понял, что вижу вечность. То было видение свободы и обусловленности, перед моим внутренним взором души низвергались в еще более скованные и замерзшие глубины, чем наше существование, и поднимались ввысь к свободе и сиянию. Было похоже, что свободные души могут входить во Вселенную и покидать ее по собственному желанию.
Видение длилось менее минуты, я еще не дошел до Ру де Пера, как оно прекратилось и стало воспоминанием. Решив не возвращаться в контору, я повернул обратно, весь дрожа от пережитого, и, придя домой, рассказал все миссис Бьюмон. Я попросил ее зарисовать мое видение с моих слов. Она взяла доску и быстро очертила сферу чувственного восприятия с ее внутренней и внешней областью так, как я ее описал.
Собираясь на очередной обед к Сабахеддину, мы захватили рисунок с собой. Рассказ об эфире, распространяющимся во все стороны со скоростью света, потряс его воображение. В приподнятом настроении мы проговорили почти полночи. Мевлуд ждал нас и, когда мы наконец вышли, был готов без слов разделить наше удивление.
Я пытался представить увиденное математически, но обнаружил, что в пятом измерении ничего нельзя измерить, испытать, доказать или опровергнуть. Только через тридцать лет мне удалось сделать это.
Тогда я решил попробовать «исследовать» пятое измерение, находясь в особом состоянии сознания. Я слышал, что курение гашиша приносит ощущение остановки времени. В Турции было множество курильщиков гашиша, и вскоре я нашел того, кто взялся обучить меня этому. Вкус гашиша показался мне неприятным и опасным. Горло горело, постепенно все больше и больше сжимаясь, и я начал задыхаться. Неожиданно спазмы прекратились, и меня охватило чувство парения в воздухе. Некоторое время я был наполнен свободой и радостью. Видно ничего не было, также не было и ощущения пребывания за пределами пространства и времени. Я попробовал второй и третий раз, как советовал мой турецкий ментор. Освобождение наступало раньше, и ощущения были менее неприятными, но не прибавилось никаких указаний того, что я исследую пятое измерение. Мне удалось испытать разрыв между осознанием себя и осознанием своего тела. Ощущение парения отличалось от того отделения от тела, которое я пережил в коме два с половиной года назад.
Я рассказал князю о своих экспериментах, и он заметил, что, возможно, пройдет довольно длительное время, прежде чем результаты дадут о себе знать. Он отсоветовал мне продолжать. Он сам занимался подобными вещами и изучал литературу по данному вопросу и в результате пришел к убеждению, что при этом возникает серьезная опасность постоянного повреждения «астрального тела» человека. Так назывался квазиматериальный орган, обладающей специальной чувствительностью, позволяющей установить связь между физическим телом и высшими частями человека. Сабахедцин верил, что его наличие в человеке может быть показано экспериментально и что его существование продолжается еще некоторое время после смерти физического тела.
Я не воспринял его пояснения, касающиеся астрального тела, поскольку в то время мыслил картезианскими категориями духа и материи. Я не мог принять квазиматериальный орган: астральное тело – если и существовало -Должно было быть или материальным, или состоянием сознания, а не чем-то между. Тем не менее, я с благодарностью принял совет Сабахедцина, ведь в глубине души я очень боялся наркотиков. Больше никогда я не экспериментировал с ними, поэтому не могу утверждать, могут ли они вызвать аутентичное переживание какого-либо сверхнормального состояния сознания.
Мой интерес к пограничной области между духом и материей не ослабевал. Время от времени я общался с дервишами, встречался с жителями восточных провинций или даже выходцами из Центральной Азии, наделенными исключительными способностями. Однако мне не попадался феномен, доступный корректному изучению. Затем в конце 1920 года, несколько менее загруженный разведывательной службой, я узнал о демонстрации гипнотических способностей, представляемых поляком, называвшим себя Радвана де Прагловски. Один из моих коллег пригласил его к нам для частного показа, где я увидел опыты, которым не нашел объяснения. Например, он погрузил одного британского офицера прямо на наших глазах в каталептическое состояние. Голова испытуемого лежала на одном стуле, ноги – на другом, настолько ригидным стало его тело. Странным образом он напомнил мне старого руфайского дервиша с кривой саблей.
Я пригласил Радвану де Прагловски к нам в дом. Оказалось, что он изучил глубинные состояния гипнотического транса, и, когда я попросил его давать мне уроки, он с готовностью согласился. Простые опыты можно было выполнять с любыми людьми, но глубокие исследования потребовали бы особо чувствительных участников.
Миссис Бьюмон вместе с русской девушкой, с которой мы познакомились, помогая беженцам из России, согласились испытать свои силы, и обе оказались прекрасными испытуемыми. Мы встречались один или два раза в неделю, и вскоре я освоил почти все опыты, описанные в книге полковника де Роша. Кроме всего прочего, я наконец проверил эффект, называемый «экстериоризацией чувствительности». Он достигался следующим образом. Испытуемый погружался в гипнотический транс такой глубины, что кожа теряла свою чувствительность и человек только слышал голос гипнотизера. Голову испытуемого, чьи глаза были закрыты, окружал непрозрачный экран, поэтому он никоим образом не мог видеть свое тело. Затем брали какой-нибудь предмет, например, золотое кольцо, подвешенное на тонкой серебряной нити, и осторожно передвигали над поверхностью тела. Испытуемый должен был сообщать о своих ощущениях. Когда кольцо оказывалось в нескольких сантиметрах от кожи, испытуемый вскрикивал и говорил, что обжегся. Таким способом составлялась карта чувствительных зон вблизи поверхности тела. Они напоминали набор оболочек, ближайшая из которых находилась в нескольких миллиметрах, а дальняя – в метре от кожи.
Эти эксперименты убедили меня в том, что вокруг человеческого тела должно быть некое силовое поле, связанное с нервной системой внутри тела. Они заставили меня пересмотреть нелестное мнение о сабахеддиновском описании астрального тела человека. Я начинал догадываться, что существуют состояния материи, невидимые и неощущаемые, но у которых есть вид чувствительности, подобный нервной системе животных.
Я сообщил князю Сабахеддину об этих экспериментах, он был обрадован результатами, но посоветовал обратить внимание на феномен, называемый «регрессия памяти», при котором гипнотизируемый, проходя через четыре различных состояния, возвращается в свое прошлое. Он полностью забывает настоящее и не знает, где находится. Он словно бы живет в определенном времени прошлого. Голос и манеры изменяются и молодеют по мере прогрессирования регрессии.
Миссис Бьюмон, в то время 47 лет от роду, вернулась в свое детство, в Индию, и бегло заговорила на хиндустане, на котором проснувшись, едва ли могла сказать несколько слов. Русская девушка пошла еще дальше и оказалась в пренатальном состоянии, свернувшись, как пятимесячный плод. Затем она сказала, что парит в космосе.
Несколько раз и я пытался вернуться в прошлое. Ни разу не было и намека на воспоминания до зачатия. «Парение в космосе» можно интерпретировать как стадию гаструлы.
Сабахеддин был несколько разочарован результатами. Он, с некоторыми колебаниями, верил в реинкарнацию и надеялся, что мы получим некоторые свидетельства о предыдущих жизнях. Должен сказать, что мои скромные эксперименты по регрессии памяти не подтвердили утверждений, высказанных полковником де Роша в книге «Les Vies Succesive».
Гипнотические эксперименты утомили меня и не помогли в исследовании пятого измерения. Двое моих испытуемых не вели себя так, словно переходили с одной линии времени на другую. Живя жизнью пяти-, десяти- или двадцатилетней давности, они ничего не знали и не хотели знать о другом времени – прошлом или будущем.
Новые интересные события полностью поглотили нашу жизнь, и я прекратил свои гипнотические опыты.
Глава 5
Гурджиев и Успенский
Вторым решающим событием моей жизни, произошедшим в Куру Чешме, стала первая встреча с Георгием Ивановичем Гурджиевым, одним из наиболее замечательных людей нашего столетия. Паттерн моей жизни, несомненно, содержал необходимость этого знакомства, поскольку три различных пути привели меня к нему.
Все началось с Михаила Александровича Львова, бывшего сержанта Царской Конной Гвардии. Он принадлежал к сливкам русской аристократии, был обращен Львом Николаевичем Толстым в свою веру, покинул армию и поселился в Ясной Поляне. Там его застала и смерть Толстого в 1910 году. Выучившись сапожному делу, он отказался от всех других возможностей и жил изготовлением башмаков. Верный приговору, вынесенному Толстым революции, он покинул Россию и в 1920 году оказался в Константинополе в полнейшей нищете. Он соорудил себе лежанку под лестницей в «Русском маяке» – клубе для белых русских, расположенном рядом с Туннелем (верхней станцией подземной горной железной дороги между Пера и Галата). Встретившись с ним, миссис Бьюмон была так тронута его смирением и спокойствием, что предложила ему пожить в свободной комнатке у нее в доме. Он согласился, заметив, что отсутствие уединенности в «Маяке» весьма тягостно для него, и выговорил условия: предоставить ему самому делать домашнюю работу и не тревожить его в часы медитаций.
Mы были рады принять его, хотя и не много времени проводили дома. Она занималась нелегким учительским трудом, преподавая английский в турецкой школе для девочек Безм-и-Алем, директрисой которой была ее лучшая подруга Сабина Эсен. Она любила своих турчанок и засиживалась допоздна с теми, кому требовались дополнительные занятия. Я же частенько просиживал до ночи в конторе, поэтому мы бы совсем редко виделись с Львовым, если бы не мое крайнее восхищение его личностными качествами.
Таких, как Львов, я не встречал раньше. Смирение и любовь к бедности пронизывали все его существо. Он никогда ничего для себя не искал, не давал советов и вообще не разговаривал без необходимости. Обычно он целыми днями молча чинил ботинки для нищих русских, которые, как правило, не могли заплатить. Я предполагал, что ему лет пятьдесят, но мягкие бледно-голубые глаза, худая прямая фигура и безупречное телосложение как бы лишали его возраста. Он никогда не унывал и не жаловался на какие-либо недомогания. Неуклонно подчиняясь жесткой самодисциплине, он никогда не предлагал другим следовать его примеру.
Однажды Львов, колеблясь и всячески извиняясь сказал нам, что его старый друг Петр Демьянович Успенский хотел бы проводить в Пера ежедневные Собрания, но не может найти подходящего помещения. Гостиная миссис Бьюмон как раз то, что надо, к тому же по вечерам она пустует, так что, быть может, она бы не возражала сдать ее. Миссис Бьюмон с готовностью согласилась. Львов предупредил, что это частные собрания, и попросил нас не слушать того, что там будет говориться. Узнав, что собрания будут вестись на русском, мы заверили Львова, что ни слова не поймем.
Так я познакомился с Петром Успенским, ставшим моим учителем, чье воздействие было одним из главных в формировании моего подхода к жизни. Он проводил собрания по средам во второй половине дня, они обычно затягивались допоздна, и мы с миссис Бьюмон возвращаясь, слышали такие звуки, будто разом передрались все черти в аду. Мы недоумевали, что же так будоражило эту маленькую группу русских. Львов заверил нас, что в их спорах нет ничего от политики, и мы поверили ему безоговорочно. Успенский был нам симпатичен, и мы пытались завести с ним знакомство, хотя с трудом понимали его английский. В то время он жил с женой и домочадцами на острове Принкипо, зарабатывая понемногу, обучая русских английскому, а детей – математике.
Однажды я спросил его, о чем он говорит на своих собраниях. Он ответил: «О Трансформации Человека». И добавил: «Вы полагаете, что все люди находятся на одном уровне, но, в действительности, один человек может отличаться от другого, как овца от кролика. Есть семь различных категорий людей». Взяв листок бумаги, он нарисовал простую схему:
| | совершенный человек | 7 | |
| сознательный человек | 6 | |
| объединенный человек | 5 | |
1
инстинктивный человек | 2 чувствующий человек | 3
думающий человек | |
| переходный человек | 4 | |
Он пояснил, что все известные нам люди принадлежат первым трем низшим категориям, живя своими инстинктами, эмоциями или умами. «Если кто-то решится на трансформацию, прежде всего он должен достичь гармонии между инстинктами, чувствами и мыслями. Это первое уело вне для правильной трансформации. Трансформированный человек обладает силой, недоступной обычному человеку. Даже человек N5 для нас будет суперменом».
Этот разговор с фотографической точностью запечатлелся в моем мозгу. Я вижу себя сидящим под окном, слева от Успенского. Помню, как резко он оборвал объяснение и кинул на меня взгляд через пенсне. Всю сцену я могу воспроизвести в точности, но она как бы стоит особняком. Я не настаивал на продолжении разговора и не применил понятие «трансформация» к самому себе.
Этим же вечером, обедая с Сабахеддином, я рассказал ему о беседе с Успенским. Он не проявил особого интереса, и я уверился, что схема Успенского искусственна и ненаучна. Втайне я полагал, что открытое мной пятое измерение гораздо более интересно, и не говорил о нем лишь из-за полного отсутствия каких-либо доказательств.
То ли из-за недостаточности проявленного мной внимания, то ли по собственному убеждению не делать самому следующий шаг Успенский не говорил больше на тему трансформации человека. Мы оставались друзьями, и иногда я навещал его семью в Принкипо.
Следующая нить легла мне в руки благодаря моему увлечению музыкой. Объединенными усилиями вместе с несколькими офицерами армии союзников мы организовали в Пера концерты. Дело в том, что среди русских беженцев было много оркестрантов и два хорошо известных дирижера: Бутников и Томас де Гартман. У каждого были свои сторонники, но места для двух оркестров не хватало, потому мы уговаривали их объединиться. Между ними велось серьезное соперничество, поэтому совместное существование давалось нелегко. Один привез с собой тромбониста из Киева, которому посчастливилось захватить с собой несколько мешков разных инструментов. За спиной другого маячил титул руководителя Московского оркестра. Таким образом, поле для маневров было обширным.
Из двоих дирижеров мое особое внимание привлекал Томас де Гартман. Его жена Ольга, необычайно красивая женщина, в прошлом была русской оперной певицей. Гартман близко дружил с Александром Скрябиным, погибшим во время войны в Сибири. Он рассказал мне о вере Скрябина в высшие способности, которые может иметь человек вне физического тела. Музыка, считал Скрябин, пробуждает и развивает эти способности. Гартман хотел поставить две симфонические поэмы и «Прометея». Будучи сам композитором, он никогда не публиковал свои произведения.
Бутников был более подвижным и, возможно, более многогранным главой оркестра, но Гартман был больше чем дирижер. И миссис Бьюмон, и я чувствовали, что у него есть доступ к некоему тайному знанию, и полагали, что его источником являлся Скрябин. Мы и представить себе не могли, что он знаком с Успенским.
Вскоре все было расставлено по местам. Третья нить пришла от князя Сабахеддина. Он недолюбливал телефон, считая его неприятным устройством грубого вмешательства в чужую жизнь. Поэтому я был удивлен, услышав в трубке его голос, просящий моего позволения привести старого знакомого на наше следующее собрание. Он представил гостя как человека, которого он не видел с 1912 года, но которого считал необычайно интересным. Он назвал и имя, но по телефону я не смог его разобрать, и заметил, что тот недавно прибыл в Турцию с Кавказа.
Я еще не отказался от идеи караванного путешествия от долины Оксы в Китай и не упускал возможности встречи с людьми из Центральной Азии. Я всегда был рад встрече с узбекскими и туркменскими путешественниками, возможности подучить тюркский диалект межкаспийской области и Туркестана. Ожидая выспросить как можно больше о землях моей мечты, я предвкушал эту встречу.
Зная пунктуальность князя, за несколько минут до восьми я приехал в Куру Чешм и был прямо препровожден в маленький салон, где мы обычно беседовали после обеда. Князь немедленно ко мне присоединился. Я узнал имя гостя – Гурджиев и то, что впервые князь случайно познакомился с ним, возвращаясь из Европы в Турцию после Турецкой революции 1908 года.
Всего три или четыре встречи связывали князя с Гурджиевым, однако князь знал, что Гурджиев – оккультист и исследователь, много и далеко путешествующий. А также один из немногих, сумевших проникнуть в тайные братства Центральной Азии, и превосходный собеседник. Больше он не мог или не хотел мне рассказать.
Мы заговорили о моих гипнотических экспериментах. Князь верил в акашические записи, то есть, в акаша, или эфир, который пронизывает все существование, восприимчивый и нетленный. Все события и переживания оставляют на нем свой след. Находясь в состоянии особой чувствительности, люди могут прочитывать эти записи, таким образом получая доступ к событиям прошлого. Такая же запись соединяет каждого индивидуума со всеми его прошлыми жизнями. Я не вполне разделял эту теорию, полагая, что если мы действительно существовали раньше, то должен быть более простой способ узнать об этом, нежели чтение записей акаша, доступных только нескольким специально подготовленным людям.
Время шло, князь не выказывал никаких признаков нетерпения. Было, наверное, уже половина девятого, когда появился Гурджиев. Без тени смущения он вошел, приветствовал князя по-турецки с акцентом из странной смеси культурного османли и какого-то грубоватого восточного диалекта. Когда нас знакомили, я взглянул в самые необычные глаза, которые я когда-либо видел. Глаза отличались один от другого настолько, что я решил, что дело в освещении. Но как выяснилось потом, миссис Бьюмон тоже это отметила, добавив, что дело было в выражении глаз, а не в их форме или каком-либо Дефекте. Он носил длинные черные усы, свирепо закрученные кверху, на голове был колпак – астраханская шапка, обычная для жителей восточных деревень, но редко встречающаяся в столице. Когда после ужина он снял этот головной убор, я увидел, что его голова была выбрита. Роста он был небольшого, но очень крепкого телосложения. Я подумал, ему должно быть около пятидесяти, а миссис Бьюмон была уверена, что он гораздо старше. Позднее он скажет мне, что родился в 1866 году, а его родная сестра будет спорить и уверять, что это был 1877 год. Его возраст, как и все, что его касалось, было тайной.
Французским , равно как и английским, он не владел, поэтому разговор шел по-турецки, который миссис Бьюмон только понимала, но на котором не могла говорить. Мне было очень легко с ним, но она призналась позже, что чувствовала себя не в своей тарелке, как если бы он знал о нас нечто, что мы всеми силами стараемся скрыть. Мне так не показалось, и лишь позже я узнал, что Гурджиев умеет быть другим для каждого нового человека.
В Константинополе он находился уже около двух месяцев. Сюда он приехал из Тифлиса, столицы Грузии, где основал Институт для того, чтобы обнародовать результаты собственных исследований. Он намеревался отправиться в Европу по приглашению Жака Далькрозе, основателя эвритмии, у которого был собственный центр в Геллеро, в Германии.
Явно желая вовлечь меня в беседу, Сабахеддин упомянул о нашем интересе к гипнозу и попросил меня рассказать о моих опытах. Я заговорил, Гурджиев внимательно слушал. Я почувствовал, что он не столько следит за моими словами, сколько переживает моей опыт вместе со мной. Никогда раньше я не испытывал ощущения понимания – даже лучшего, чем я сам понимал себя. Как только я закончил рассказ, Гурджиев пустился в длительные пояснения, которые доставили нам с князем чрезвычайное удовольствие и восхитили нас. Он говорил как специалист, равно знакомый с теорией и практикой гипноза. Позже я пытался передать его рассуждения миссис Бьюмон, но в замешательстве обнаружил, что позабыл практически все, о чем он говорил. Подобные случаи неоднократно повторялись в дальнейшем, и многие годы прошли, прежде чем я уразумел их подлинное значение. В одном состоянии сознания мы видим, слышим и понимаем иначе, чем в другом. При переходе из одного состояния в другое, память не создает связи, поскольку память призвана привязывать наше внимание к одному узкому слою нашего опыта, иначе говоря, к одной временной линии.
Гурджиев говорил об уровнях опыта применительно к гипнозу. Он начал с определения различных субстанций, или энергий, существование которых можно продемонстрировать, но они еще не открыты естественными науками. Среди них были слишком тонко организованные и не поддающиеся физическим методам исследования. Каждое возможное действие зависело от этих субстанций. Например, если мы думаем, у нас должна быть субстанция мысли. Погружаясь в какой-либо над-нормальный опыт, мы должны обладать соответствующей субстанцией.
Существуют способы разделения и управления этими субстанциями. Один из этих способов и называется гипнотизмом. Есть много разновидностей гипнотизма в зависимости от вовлекаемых субстанций. Гурджиев объяснял регрессию памяти способностью особой субстанции, присутствующей во всех живых существах, «кристаллизовываться в виде тонкого тела внутри физического тела». Князь спросил, может ли тонкое тело вселяться на земле в других людей или в животных. Гурджиев ответил отрицательно; в то же время он не сказал ни «да», ни «нет» в ответ на утверждение князя о том, что реинкарнация может быть доказана. Он просто заметил: « На западе понятие реинкарнации столь извращено, что говорить о нем бесполезно».
Он заговорил о моих опытах по экстериоризации чувствительности и о разных ответах гипнотизируемого на различные металлы. Каждый металл был связан с особой тонкой субстанцией. Эти же субстанции присутствуют и в человеке, хотя и находятся на более низком уровне, чем подлинная человеческая субстанция. Каждая субстанция обладает определенной психической способностью. У человека в глубоком гипнозе субстанции разобщаются – как медная стружка под действием магнита. В этом состоянии субъект способен отвечать на воздействие тех субстанций, к которым он обычно не восприимчив. Так, можно использовать различные металлы для вызова определенных психических реакций, например, злости, страха, любви, нежности и т.п.
Здесь я потерял нить разговора и слушал, не слыша. Очевидно, этот человек обладал особенными знаниями, каких я не встречал раньше. Я был убежден, что все, о чем он рассказывает, не вымысел, заимствованный у писателя-оккультиста, а факты, проверенные им самим. Трудно описать словами, чем Гурджиев отличался, скажем, от того же князя или от знакомых мне дервишей. Меня охватило сознание собственной неполноценности: уверен, он смог бы ответить на все мои вопросы, а я не знал, что спросить.
Я хотел рассказать о том, что мне довелось пережить после ранения, но не смог заставить себя заговорить. Я боялся, что ему покажется, будто я считаю себя особенным, не похожим на других. Мне совсем не хотелось быть проанализированным и разложенным по полочкам, как он разобрал гипнотические опыты. Вместо этого я заговорил о своем открытии пятого измерения и вере в существование области свободной воли.
Вновь очень серьезно слушал Гурджиев и изучал диаграмму, на которой я обозначил «верхние» и «нижние» уровни существования вне наших пространства и времени. Он сказал: «Ваша догадка верна. Есть высшие измерения, или высшие миры, в которых свободно проявляются высшие человеческие способности. Но в чем смысл их теоретического изучения?» Представьте, вы доказали математически существование пятого измерения, но какая вам от этого польза, пока вы остаетесь здесь?» Он указал на диаграмме сферу нашего обычного пространства и времени. «Оставаясь здесь, вы катитесь вниз. Хотите подняться в мир свободы – сделайте это в настоящей жизни. Иначе, будет слишком поздно».
Он повторил свои слова о кристаллизации тонкого тела и добавил: «Но и этого недостаточно, поскольку это тело также подчиняется материальным законам. Освободиться от законов пространства и времени можно, изменив себя. Такое изменение зависит только от вас, и его нет пользы изучать. Вы можете знать все и оставаться на том же месте. Как человек, изучивший Досконально все о деньгах, бирже, банковских законах, но не имеющий ни гроша. Что ему делать тогда со своими знаниями?»
Внезапно его тон изменился, и он сказал, глядя прямо на меня: «Ты можешь измениться, но предупреждаю – это непросто. Ты все еще считаешь, что можешь делать то, что тебе нравится. Несмотря на изучение свободной воли обусловленности, ты так и не понял, что, оставаясь здесь, ты ничего не можешь сделать. В этой сфере свободы нет. Ни знания, ни вся твоя деятельность не принесут ее тебе. У тебя нет ..». Гурджиев не нашел подходящего турецкого слова и употребил слово «varlik», которое приблизительно можно перевести как «качество присутствия». Я подумал, что он имеет в виду опыт отделения от тела.
Ни князь, ни я не поняли, что же хотел выразить Гурджиев. Мне стало грустно, потому что его тон не оставлял сомнений в величайшей важности того, что он говорил. Я начал неубедительно отвечать, что знаю, только знаний мало, но что же еще делать, как не учиться? Он не отвечал и заговорил с князем о храмовых танцах и их значении в изучении древней мудрости. Нас троих он приглашал посмотреть на храмовые танцы, которые демонстрировала группа его учеников, приехавших с ним из Тифлиса.
Мы отвезли Гурджиева обратно в Гранд Ру де Пера. В полночь у него была назначена встреча, что казалось довольно странным. Прощаясь, он повторил свое приглашение в Еменеджи Зокак на следующую субботу.
Князь идти не собирался. На самом деле, он никогда ни под каким предлогом не выходил вечером. Вместе с миссис Бьюмон я пришел в Еменеджи Зокак в 9 часов пополудни, как было условленно. Когда мы вошли, в комнате был только один высокий мужчина в белом костюме с желтым кушаком, который стоял в углу спиной к комнате и медленно наклонял голову вперед и назад. Тут вошли остальные. Все были одеты в белые костюмы. И женщины, и мужчины носили наглухо застегнутые туники, на мужчинах были широкие белые брюки, а на женщинах белые рубашки навыпуск и белые панталоны. Никто не разговаривал и не замечал друг друга. Одни, скрестив ноги, уселись на пол. Другие занялись отработкой различных поз и движений.
В одном конце комнаты стояли стулья, и двое или трое приглашенных вошли и сели. К нашему немалому замешательству, мы увидели Успенского, который, не смотрел по сторонам и, казалось, не узнавал нас. Вскоре вошел Томас де Гартман и сел за пианино. Я и не подозревал, что эти двое связаны с Гурджиевым.
Вскоре пришел и сам Гурджиев. Он был одет в черное. Как только он вошел, исполнители поднялись и построились в шесть линий. На них были кушаки разных цветов, и они выстроились согласно цветам спектра, но почему-то красный был не на своем месте.
Гартман начал играть. Первый танец сопровождала завораживающе медленная мелодия, больше похожая на греческие песнопения, чем на восточные храмовые танцы. Движения были очень простые, как в шведской гимнастике. Каждый танец длился одну-две минуты. Действо становилось все более и более напряженным. Через какое-то время прямота линий была нарушена, и танцовщики образовали сложный замысловатый рисунок. Перед началом очередного танца один из мужчин сказал по-английски: «Следующее упражнение представляет собой Инициацию Жрицы из пещерного храма в Хинду Куш». Оно продолжалось дольше, чем другие, и произвело самое потрясающее впечатление за весь вечер. Партию жрицы, которая была почти неподвижна, вела высокая и очень красивая женщина. Ее лицо выражало полнейшую отрешенность от внешнего мира. Казалось, она не замечает сложных волнообразных движений мужчин и женщин вокруг нее. Прежде я никогда не видел такого прекрасного танца и не слышал столь необычайно волнующей музыки.
После Инициации Жрицы несколько упражнений выполняли только мужчины. Затем все собрались у одной стены. Гартман взял несколько аккордов. Гурджиев выкрикнул по-русски какой-то приказ, повинуясь которому танцоры подскочили в воздух и помчались прямо на зрителей. Неожиданно Гурджиев крикнул: «Стоп!», и все замерли прямо на бегу. Большинство танцоров, находящихся в тот момент в движении, упали и покатились по полу. Останавливаясь, они застывали, как в каталептическом трансе. Повисла долгая тишина. Вновь по команде Гурджиева все спокойно Поднялись и заняли свои места. Упражнение повторилось два или три раза, но на нас особенное впечатление произвел только первый раз.
Говоря хладнокровно, эта странная команда была как бы точкой антикульминации, странным образом вписывающейся в картину в целом. Это сильно походило на «стоп» в Мукабеле мевлевских дервишей.
Я хотел было спросить Гурджиева, означает ли это момент смерти. Но он быстро покинул комнату, за ним исчезли и танцоры. Гартман подошел и дружески приветствовал миссис Бьюмон и меня. Мы стали искать Успенского, но он тоже куда-то пропал.
Несмотря на сильный интерес, который вызвал у нас Гурджиев, его слова и работа его учеников, ни миссис Бьюмон, ни я не ощущали необходимости ближе сойтись с ним. Нам казалось, что мы соприкоснулись с очень закрытым кругом, секретным обществом, члены которого не нуждались в людях со стороны. Нам не было места в гурджиевском окружении, хотя бы потому, что он требовал безоговорочной дисциплины для выработки тех удивительных навыков и выносливости, которые мы наблюдали, и полной самоотдачи этим занятиям.
Точно не помню, но, по-моему, Гурджиев пробыл в Турции около года, а осенью 1921 отправился в Германию. Наши случайные встречи были связаны с трудностями в получении европейских виз для него и его сподвижников. В то время для русских вообще было сложно выехать куда-либо. Я изо всех сил старался помочь, но беженцы находились в ведении Союзной Организации в Турции, с которой я почти не имел дела.
Однажды уже в 1921 году меня навестил Успенский и принес мне три экземпляра своей книги «Tertium Organum» на английском языке, которые ему прислал Клод Брэгдон из Нью-Йорка. Он также получил и авторский гонорар и вновь намеревался уехать в Англию. Все это время он упорно изучал английский и уже говорил гораздо лучше, чем при нашей первой встрече. У него были в Англии друзья, связанные с Теософским Обществом, и я посоветовал ему написать им с просьбой о формальном приглашении. Он любезно подарил мне экземпляр «Tertium Organum», который я прочел с подлинным интересом и восхищением. Книга впервые открыла мне те глубокие изменения, которые претерпевает человечество, чтобы в конечном итоге научиться использовать пока скрытые под грузом логического мышления возможности. Я как раз закончил чтение, когда Успенский пришел ко мне с телеграммой от леди Ротермер из Нью-Йорка «Потрясена Вашей книгой «Teiiium Organum» хотела бы встретиться с Вами в Нью-Йорке или Лондоне оплачу все расходы».
Успенского интересовало, что я слышал о леди Ротермер. Я рассказал ему о большом влиянии, которое ее муж вроде бы имел на премьер-министра мистера Ллойда Джорджа, но трудно было предположить, сможет ли она помочь с визами и разрешениями. Они часто становились непреодолимым препятствием даже для влиятельных людей. Успенский рвался в Лондон. Он принял приглашение леди Ротермер и написал о проблемах с визами. Несколько недель прошло, прежде чем были присланы деньги, но о визах ничего не было слышно. По опыту я знал, что попытки сделать что-то «сверху» часто задерживают дело, поэтому я сам отправился в русское отделение. Там не нашли никаких причин отказать Успенскому и его семье, и вскоре они уехали в Лондон.
Затем и Гурджиев со своей партией, включая Гартманов, отбыл в Германию. Я не предполагал, что знакомство с Гурджиевым, Успенским и Гартманом как-то проявится в будущем. Моя жизнь была слишком полна событиями и интересна, чтобы подчинить себя дисциплине, которую, скорее всего, потребовал бы Гурджиев.
Глава 6
Политика, большая и малая
В предыдущих главах я нарисовал довольно однобокую картину моей жизни. Может показаться, что большая часть моего времени и сил была отдана поискам истины. На самом деле, днем и ночью я был погружен в разведывательную деятельность, а встречи с князем Сабахедцином служили скорее отдыхом, чем основным занятием. Оглядываясь назад, на годы, проведенные в Турции, я поражаюсь тому, насколько мало меня затрагивали те люди, с которыми я имел дело. Миссис Бьюмон и князь с любовью относились ко мне, но не могли понять моей одержимости политикой. Князь как-то сказал ей: «Notre enfant genial a le coeur encore glace» (“У этого гениального ребенка ледяное сердце”). Многому суждено было случиться, прежде чем лед растаял.
Я крайне требовательно относился к себе и окружающим. С августа 1919 года по январь 1921 я работал, не покладая рук и ни минуты не отдыхая. Я стремился знать все, что происходит на Ближнем Востоке и почему. Турецкая национальная армия сражалась на трех фронтах: в Смирне, Силиции и Армении. Французы воевали с арабами в Сирии. Русские проникали на Кавказ. Венизелос был свергнут, плебисцит провозгласил Короля Греции Константина. Американцы под давлением крупных нефтяных компаний искали плацдарм в Месопотамии. В Армении, Азербайджане и Туркестане образовывались новые правительства, и никто не знал, чего от них ожидать.
В мою контору со всех концов собиралась информация, и я составлял по Двадцать и больше донесений в неделю. Но больше всего меня занимало несчастное турецкое правительство в Константинополе. Британское министерство иностранных дел настаивало на de jure статусе правительства султана и не хотело признавать de facto авторитет националистов. Я считал возможным и необходимым примирить оба правительства, особенно после устранения Венизелоса, бывшего главным препятствием для установления В3аимопонимания с Грецией. Я стал близким другом кронпринца Абдула Меджид-эффенди, который, возможно без должных на то оснований, был Уверен, что я спас ему жизнь.
Однажды ранним майским утром 1920 года меня разбудил телефонный звонок, и в трубке я услышал голос самого кронпринца. Это было настолько против правил, что я едва мог отвечать. Очень взволнованно он просил меня приехать во дворец Долма Багче, где находилась его резиденция, чтобы взять письмо, которое он адресовал лично британскому главнокомандующему. Он добавил, что арестован султаном и боится быть убитым.
Большой мерседес был всегда у меня под рукой. Моим водителем был русский, во время войны водивший бронированные машины и так и не отвыкший от этого занятия. Через несколько минут он прибыл в контору и, когда я объяснил, куда мы едем, посоветовал мне взять ружье потяжелее, но я отказался. Подъехав к Долма Багче, мы обнаружили кордон из турок за колючей проволокой, поспешно натянутой вокруг дворца. С внезапно вспыхнувшими глазами мой водитель заявил, что преодолеет эту преграду, не повредив машины. Офицер турецкой армии, предводительствовавший страже, крикнул «Dur! Gecme!» (“Стой! Проезд запрещен!”), а его люди нерешительно подняли свои ружья. Я очень не люблю, когда мне перечат, поэтому решил ехать напролом. Турецкие солдаты явно не ожидали увидеть британского офицера в форме, поэтому не сделали ничего, а только вскрикнули. В следующий момент я стоял на пороге дворца, где меня уже ожидал князь с огромным запечатанным конвертом в руках.
Из его слов явствовало, что накануне он велел подготовить свою яхту для поездки с маленькой дочерью, княжной Дур-и-Шеваз, которая как раз поправлялась после бронхита, по Мраморному морю. Султан, которого предупредили, заподозрил, что на самом деле он хочет пересечь Малую Азию и возглавить армию националистов, поэтому послал дворцовую стражу для его задержания. Затем он как-то бессвязно заговорил об отравлении, о том, что его планируют убить и представить это как самоубийство – так же, как это проделали с его отцом, султаном Абдулом Азизом, сорок лет назад.
Я отвез письмо в британскую ставку. Там все были взволнованы слухом, что кронпринц объявил священную войну против союзников. Всю эту неразбериху устроил капитан порта в Золотом Роге, в ведении которого находились турецкие корабли. Он доложил, что кронпринц приказал подготовить свою яхту и отплывает в «неизвестном направлении». Привезенное мной письмо быстро все разъяснило, и за пару дней спокойствие было восстановлено. Абдул Меджид остался при убеждении, что его двоюродный брат султан задумал его убить, и всегда говорил обо мне как о своем спасителе. Он преподнес мне великолепные золотые часы с эмалевым изображением дворца Долма Багче и маленький кусочек колючей проволоки на память.
Семь месяцев спустя ситуация круто изменилась. Союзники были бы рады найти в князе Абдуле Меджиде-эффенди посредника между ними и Мустафой Кемалем-пашой. Я был вовлечен в сложные тайные переговоры о восстановлении дружеских отношений. В конце концов, маршал Иззет-паша, военный министр, решил поехать в Анкару. Прибыв туда, он отказался возвращаться до тех пор, пока союзники не согласятся пересмотреть наиболее одиозные пункты Севрского Соглашения. Перед этим он пригласил меня на свою виллу на азиатском побережье Босфора над Скутари. Он спросил, считаю ли я, что Британия искренне хочет вновь дружить с Турцией. Если это так, он готов сделать все, чтобы убедить Мустафу Кемаля-пашу встретиться с британским главнокомандующим и прийти к соглашению об эвакуации греков из Малой Азии без ущемления их национального достоинства. Он был уверен, что король Константин, с которым он познакомился во время войны, хочет положить конец вражде и согласится встретиться с ним в Афинах.
Я был в ужасном состоянии. Я желал дать ему требуемые заверения, но подозревал, что министерство иностранных дел переплюнуло самих Бурбонов в неспособности забывать и извлекать уроки. Ллойд Джордж и Карсон могли сойти с политической сцены, но государственная машина шла бы прежним несправедливым и упрямым политическим курсом. Я мог только сказать Иззету-паше, что каждый, кто общается с турками, проникается к ним симпатией и доверием и что, дайте срок, между нашими народами разовьется дружба и взаимопонимание. Но отвечать за политику правительства Его Величества я не мог. Он печально кивнул головой и сказал: «Даже в такой демократической стране, как ваша, есть правительство, которое решает все. Более века Британия поддерживала Оттоманский Султанат, таким образом стабилизируя политику в доброй четверти земного шара. Сейчас вы теряете наиболее преданного вам союзника в мусульманском мире. Однажды вам придется вернуться и строить свою политику вокруг сильной Турции. Пока же мы должны позаботиться о себе сами».
Несколькими днями позже он отправился в Анкару официальным представителем султана. Прибыв туда, он заявил, что воссоединение Турции под властью султана зависит от союзников. Пока они не откажутся от своих притязаний согласно Севрскому Договору, который делает невозможным независимость Турции, он останется в Анкаре.
Я доложил об этой встрече, которая имела столь неожиданные последствия. Меня вызвали в главный штаб для выяснения подробностей нашей беседы и сказали, что, хотя в общем я правильно обрисовал ситуацию, я зашел слишком далеко в оценке политики правительства Его Величества. В это время меня уже мало заботили мнения высших авторитетов. Я чувствовал себя постоянно больным, не понимая, что в основном это были усталость и напряжение.
Не помню, что именно я сказал, но, видимо, произвел впечатление переутомленного и вспыльчивого молодого человека, поскольку через несколько дней мне велели отправиться в Англию на несколько недель и хорошенько отдохнуть.
Я покидал Константинополь в тот день, когда Мустафа Кемаль-паша объявил, что Блистательная Порта больше не является местом, где находится правительство. В это время правительства союзников, по инициативе лорда Карсона, решили пригласить греческих и турецких представителей на встречу в Лондоне. Это мероприятие называлось «Конференция по установлению мира на Ближнем Востоке». Тогда я ничего не знал об этом предложении.
Мой отъезд из Константинополя заслуживает отдельного рассказа. Платформа была заполнена людьми, пришедшими проводить меня. Ни верховного консула, ни главнокомандующего не удостоили бы таких проводов, а кем же был я? Младший офицер без всякого влияния, направляющийся домой и не представляющий, вернется ли он когда-нибудь.
Миссис Бьюмон сидела вместе со мной в тесном спальном купе, забитом с пола до потолка букетами цветов, коробками с турецкими деликатесами и другими подарками от моих турецких друзей. На платформе собралась толпа. Я был поражен, увидев слезы на глазах у некоторых мужчин. Я не мог ответить им тем же. Изнуренный и унылый, я горел тем внутренним огнем жизни, которого не понимал.
Я не могу и не буду пытаться описывать мои отношения с миссис Бьюмон. Думаю, что союз мужчины и женщины касается только их двоих – и никого больше. Я повторял: «Я никогда не покину тебя» и знал, что говорю более искренне, чем в свадебной клятве всего два года назад.
Я жил с миссис Бьюмон четыре месяца. Только сверив даты, я понял, как мало прошло времени. Миссис Бьюмон превратилась для меня в «Полли» – так я звал ее почти сорок лет. Она станет моей женой и разделит все страдания и радости моей зрелой жизни. Мне было двадцать четыре года, время, когда мужчина вступает в первую фазу зрелости: я узнал многое о человеческой природе, но очень мало о людях. Я жил головой, а сердце оставалось пустым. Я не понимал сам себя. Откуда взялась уверенность в неразрывности связи с миссис Бьюмон? Мне думается, по прошествии сорока лет, что она проистекала не из головы, не из сердца и не была связана с телом. Это было предчувствие, предвидение будущего, не имеющее ничего общего с моими мыслями или желаниями.
Позже, когда я вернулся к ней в Константинополь, миссис Бьюмон призналась мне, что, со своей стороны, она была уверена, что больше никогда не увидит меня, что я останусь с женой и ребенком и забуду о ней. В самом деле, в ответ на мои слова: «Я никогда не оставлю тебя», она сказала «Quien sabe? Помни, что я гожусь тебе в матери и что ты должен найти собственный путь». Quien sabe (Кто знает?) было ее девизом. На ее бумаге для писем синим цветом внизу было написано fleur de lys и Quien sabe.
Пришло время отправления. Я вышел на платформу, пожал множество рук. Я не мог понять этого проявления любви. Мне было очень стыдно, что я не разделяю их чувств, но я даже не знал наверняка, вернусь ли я в Турцию. Было и еще что-то трудно выразимое; я знал, что есть паттерн моей жизни, с которым я ничего не могу поделать, и в этом паттерне Турция и турки играют важную роль.
Пока поезд отъезжал от станции Сиркеджи, я был под властью ощущения нереальности происходящего, сопутствовавшего всем критическим моментам моей жизни. Я не был важной персоной и знал об этом. Я никого не вводил в заблуждение, но сейчас турки обращались со мной так, словно я обладал влиянием верховного комиссара или главнокомандующего. Я был переполнен острой печалью. Я не хотел вести нереальную жизнь, хотя мои поступки постоянно ставили меня в ложное положение.
Я приехал в Лондон 4 февраля 1921 года и впервые увидел свою дочь Энн. Ей еще не исполнилось и полугода. Я смотрел на нее в замешательстве, не в силах осознать, что я действительно отец. Первые два дня я не оставался с ней наедине, а на третий отправился с ней гулять вверх по холму к Уимблдон-коммон, моей старой школе. Я тихо беседовал с ней, и, казалось, что, хотя она не понимала слов, между нами происходило какое-то общение. В какой-то момент она взглянула мне прямо в глаза и словно бы узнала меня. Это был единственный момент взаимопонимания в течение почти что двадцати лет. С женой я совсем не мог общаться. Она искренне обрадовалась моему приезду. Мы спали в одной комнате, но я не мог заставить себя обращаться с ней как с женой. Те дни практически стерлись из моей памяти, я не могу припомнить, о чем мы говорили, была ли она огорчена или удивлена моей отчужденностью. Но прежде, чем я смог насладиться или не насладиться отпуском, произошли события, вновь все изменившие.
Когда я уезжал из Константинополя, мой начальник, полковник Гриббен, дал мне рекомендательное письмо к Ормсби-Гору, в то время младшему члену правительства, и предложил мне встретиться с ним и рассказать о мой беседе с Иззет-пашой. Так случилось, что в день моей встречи с ОрмсбиТором Национальное Правительство объявило о своем намерении послать делегацию на Лондонскую Конференцию. Эта новость неприятно поразила одних и изумила других. Анкара держала в руках ключи от большинства проблем, требующих решения, но никто не желал этого признавать.
К моему удивлению, Ормсби-Гор серьезно отнесся к моему рассказу и послал меня к Роберту Ванзиттарту, тогдашнему доверенному секретарю лорда Карсона. Он попросил меня повторить беседу с Иззет-пашой и высказать собственное мнение о силе и организации Национального Правительства. Затем он позвонил кому-то – я думаю, что Ормсби-Гору – и в моем присутствии сказал: «Нужно попробовать устроить этому Беннетту приглашение на завтрак с премьер-министром. Он просил предоставить возможность узнать из первых рук об обстановке в Турции, мне кажется, у нас есть тот, кто нужен. Вы поговорите с Филиппом Керром?» Я даже не знал имени доверенного секретаря премьер-министра, вскоре унаследовавшего от своего отца титул лорда Лотиана и бывшего нашим послом в Соединенных Штатах во время второй мировой войны. Вазиттарт повернулся ко мне и пояснил: «Премьер-министр любит узнавать новости за завтраком. Если он согласится встретиться с Вами, расскажите ему то, что рассказали мне».
Затем он заговорил о делегации Национального Правительства из Анкары и спросил, не знаю ли я его главу, Бекир Сами-бея. Я ответил, что он был черкесом-землевладельцем из Трабзонда, и начал было распространяться о рааличных группах, влияющих на консулов Национального Правительства, Как вдруг он прервал меня и сказал резко: «Ормсби-Гор сказал мне, что вы здесь в отпуске. Если мы получим соглашение Военного Министерства, согласны ли Вы действовать как неофициальный офицер связи с делегацией из Анкары? Поскольку мы не признали их правительства, мы не можем отправить никого из министерства иностранных дел, но это сила, с который мы обязаны считаться». Слушая его, я вновь испытывал то странное ощущение нереальности происходящего, которое накатывало на меня всякий раз, когда я понимал, что будущее неизбежно и что не в моих силах повлиять на ход событий. Я вернулся в Англию в отпуск для поправки здоровья, я действительно нуждался в отдыхе – и я мог сказать об этом и выйти из игры. Я чувствовал, что мне не нужно опять влезать в турецкую политику. Я должен был отказаться, но еще до того, как он кончил говорить, я знал, что соглашусь.
Ванзиттарт рассчитывал на мое согласие как на нечто само собой разумеющееся; он позвонил в Военное Министерство и сказал, что в «Савойе», где остановились обе турецкие делегации, для меня будет заказан номер. Он велел мне одеть визитку, которой у меня не было. Из министерства иностранных дел я отправился прямо к Шольтам – единственным портным, которых я знал, и они обязались одеть меня за три дня. Я купил шляпу, коричневую трость с золотым набалдашником и из неряшливого офицера в форме превратился во вполне сносного на вид дипломата.
Я побывал у Филиппа Керра, но он не проявил особого интереса к моим рассказам, поэтому завтрак с премьер-министром не состоялся. Я не знал, что как раз в момент моего прихода он писал мистеру Ллойду Джорджу с просьбой освободить его от должности доверенного секретаря. Ванзиттарт распорядился, чтобы я встретил турецкую делегацию и всячески старался сделать так, чтобы они чувствовали себя как дома. Он хотел, чтобы каждое утро я являлся в министерство иностранных дел и докладывал о их реакции на ход Конференции. Визитка была готова как раз вовремя, и 18 февраля, как раз через три недели после моего возвращения, я встречал Восточный экспресс.
Последующие десять дней были весьма поучительными для меня. Я встречался и слушал руководителей величайших военных держав. Президентом Конференции был избран Карсон, но Ллойд Джордж присутствовал на большинстве заседаний и с самого начала взял бразды правления в свои руки. Наилучшее впечатление произвел на меня Аристид Брайанд. В то время он был премьер-министром Франции, но очень отличался от французов, которых я когда-либо встречал. Он искренне, страстно верил в необходимость создания Соединенных Штатов Европы. Его политическое видение настолько опережало время, что даже через сорок лет его соотечественники едва ли понимают его. Остальными участниками конференции были Каунт Сфорза, итальянский министр иностранных дел, полковник Эдвард Хаус, личный представитель президента Вильсона и очень интеллигентный японец. Эти имена в течение двух лет я связывал с Верховным Советом Союзников и с его странными решениями, весьма осложнявшими наше положение в Турции.
Собственными глазами я увидел, что эти великие движимы такими же низменными побуждениями, как и большинство из нас. Все же я не мог не восхищаться Ллойдом Джорджем, несмотря на его дикое пренебрежение к фактам. Благодаря свой находчивости и остроумию он появлялся на заседаниях, не имея понятия о предмете обсуждения, за полчаса нащупывал слабые места в позициях собеседников и переводил дискуссию в нужное ему русло. Но ни разу я не слышал от него ни одного конструктивного предложения. Брайанд поразил меня явным стремлением достичь соглашения, что разительно отличало его от французских представителей, с которыми я имел дело в Турции.
Меня огорчали постоянные ничтожные разногласия. Было совершенно ясно, что и греки, и турки устали воевать. Греки были далеко не так сильны, как хотели казаться и какими их считало британское правительство. Плохо обученная, неуверенная армия таяла на территории величиной с саму Грецию с враждебным населением. В Европе Греции угрожали соседи-славяне – сербы и болгары. От союзников они не получили той помощи, на которую рассчитывали, но правительство Константина не решалось сдаться, как намеревался сделать ненавистный Венизелос. Со своей стороны, турки были крайне утомлены войной. Их мобилизовали двадцать лет назад, и они пережили-пять войн.
От Конференции сильно попахивало фарсом. Турецкие делегаты находились в отеле «Савойя», а греческие в «Кларидже». Греки отказались встречаться с турками из Анкары, поэтому проходили альтернативные встречи с двумя турецкими делегациями, и дело, естественно, никуда не двигалось. Меня использовали в качестве переводчика, и я просиживал на всех заседаниях. Игнорируя основные знания истории и географии, Ллойд Джордж не способствовал продвижению вперед. Однажды кто-то припомнил туркам преследования армян в Хаджине. Ллойд Джордж поинтересовался, где это, и, получив ответ, что это в Силиции, заметил, что и не подозревал, что турецкие войска добрались до Силезии. Чтобы скрыть наше замешательство, когда один из делегатов иронически поправил его ошибку, Ллойд Джордж предложил пригласить неофициальных представителей Армении для выяснения этого вопроса. Это никого не устраивало, и лорд Карсон резко закрыл заседание.
Я вышел вместе с британской делегацией. Ллойд Джордж сказал: «Надо избавиться от атмосферы конференции. Я собираюсь пригласить турок на чашку чая. Знает ли кто-нибудь их привычки?» Ванзиттарт подтолкнул меня, и мне удалось сказать: «В основном все эти люди из западной страны. А Бекир Сами-бей – черкес. Он увлеченный фермер, спрашивал меня, где найти английские корма». Для Ллойда Джорджа этого оказалось достаточно, и, совершенно очарованный, я наблюдал его в лучшем его проявлении. До окончания чаепития он покорил Бекир Сами-бея, уверив его, что фермерство гораздо важнее политики, и пообещал предоставить в его распоряжение лучших андийских экспертов по овцеводству. На следующий день Бекир Сами-бей выступил на объединенном заседании всех трех делегаций с Иримирительной речью. Союзники согласились предоставить решение вопроса самим грекам и туркам, и конференция была взорвана этим Соглашением. В действительности ничего не было достигнуто, и все знали об этом. Более того, французы и итальянцы усердно работали над тайными соглашениями с делегацией националистов. Все же конференция, возможно, была началом долгого и медленного движения к восстановлению доверия между Британией и Турцией, которое, в конце концов, привело к установлению современного равновесия сил на Ближнем Востоке. Французы, при всей их проницательности, не смогли добиться одобрения турками их плана раздела Силиции, и, не прошло и нескольких дней после возвращения Сами в Анкару, между Турцией и Францией началась война.
По завершении Конференции я был поставлен перед мучительным выбором. Я полагал, что военное ведомство не собирается отправлять меня обратно в Турцию, и оно было совершенно право. Я не хотел оставаться в регулярной армии, хотя меня и направляли в штабной колледж. Я не имел не малейшего желания возвращаться в Оксфорд. И уж совсем не по себе мне было в Уимблдоне с женой и ее семьей.
После месяца разлуки я все больше чувствовал силу связи между моей судьбой и судьбой Винифред Бьюмон. Я подал рапорт об отставке. Желая как можно скорее оформить все документы, я лично отправился в отделение верховного командования в Чатаме. Я нанял машину и поехал. Сидя один в большом даймлере и проезжая Вульвич, где менее трех лет назад я был примерным кадетом, вспоминая одно за одним места, где мы тренировались, я не мог поверить, что был этим человеком. Но также невозможно было поверить и в меня теперешнего. Кто я такой, чтобы вести эту большую дорогую машину? Почему я не поехал в Чатман на трамвае, как сделали бы большинство людей на моем месте? Уходя в армию из Оксфорда, я полностью вычеркнул себя из жизни. В ней не осталось ничего реального.
Я зашел в офицерскую столовую и последний раз позавтракал как сапер и как солдат. Я был чужим среди чужих.
Вскоре я вернулся в Лондон. Документы были в порядке, и со дня надень я ожидал приказа об отставке. Мне не на что было положиться, кроме собственного ума. Я не мог принять помощи от семьи моей жены, а моя мать сама нуждалась в моей помощи. Проезжая через Кентишийские поля, окружающие предместья Лондона, я всматривался в будущее. Я не сомневался, что вернусь в Турцию, потому что должен узнать, как мне жить. Мне было уже почти двадцать четыре года, и я не сомневался, что следующие шесть-семь лет жизни принесут мне ответы, которые я ищу. Я хотел знать о жизни все, осознавая с неприятной уверенностью, что мне придется сделать еще много глупостей, прежде чем я найду свой путь.
Наконец поездка окончилась. Приехав в Уимблдон, я сообщил Эвелин, что возвращаюсь в Турцию. Я не звал ее с собой, и она не спрашивала, почему. Я покидал свою жизнь с ощущением чужака, случайно попавшего в нее. Фактически все осталось тем же: я был сыном и братом, мужем и отцом. Я оставался даже старшим преподавателем математики в Мертон-колледже, в Оксфорде, поскольку многострадальный Ворден все еще сохранял за мной место. Но мои ценности изменились. Я начинал понимать, что мы живем в мире ценностей, во вневременной вечности, в моем пятом измерении, а не в мире фактов, часов и календарей, которые не вписывались в ту игру в прятки, в которую играли ценности. Жизнь, которой мы живем, идет по нескольким временным линиям. Линии отделяются различными состояниями нашего сознания, а память возвращается назад только по одной линии. Таким образом, мы теряем связь с большей частью нашего прошлого, особенно того, которое чуждо теперешнему опыту. Это неудивительно, поскольку ценности – это то, что нам небезразлично, в то время как к фактам мы остаемся совершенно бесстрастными. Потому мы помним так мало фактов, если только они не связаны с какой-то ценностью. Не все ценности приятны, но все тем или иным образом нам небезразличны. Из-за этого, например, воспоминания, интересные нам, могут навевать скуку на остальных.
Другим следствием «однолинейности» воспоминаний является невозможность полностью честно и искренне восстановить прошлое. Печально, но не удивительно: чем более значим наш опыт, тем меньше мы можем о нем рассказать окружающим.
Глава 7
Наследники султана Хамида
Сноуденсы подружились со мной, будучи членами Социалистической комиссии, направляющейся на Кавказ. Они тепло приглашали меня навестить их в Лондоне, и я воспользовался их предложением вскоре после приезда. Они представили меня Рамзаю МакДональду, который хотел узнать из первых рук о ситуации в Армении. Он не одобрял поддержки греков британцами в Малой Азии и был потрясен сообщениями о преследованиях турок. Он был способен на искренние чувства вместо интеллектуального рвения других социалистов. Я мог поговорить с ним о своих личных делах, и он посоветовал мне заняться политикой и, в частности, ближневосточными проблемами.
После закрытия Конференции МакДональд участвовал в дополнительных выборах в Вулвиче. Повинуясь внезапному порыву, я взялся агитировать за него. Мне поручили население среднего класса, и, переходя от двери к двери, я понял, какие бессмысленные предрассудки может внушить война вполне разумным людям. Они действительно полагали, что борьба за мир – это измена Англии и что социалисты готовы отдать страну иностранному влиянию. На меня сыпались доселе неизвестные мне оскорбления, и я чувствовал себя странно, словно это происходит не со мной. Выборы были полным поражением для МакДональда, он потерял всех своих избирателей. Толпа, собравшаяся вокруг Таун-холла, с истерическим ликованием встретила оглашение результатов. Я был озлоблен и устал. Ко всей этой нелепости прибавилось еще и то, что меня обокрали первый и последний раз в жизни. Я только что взял из банка сорок фунтов, значительную для меня сумму денег. Печальный и раздраженный молодой человек возвращался в тот вечер в Уимблдон.
На следующий день за завтраком мой тесть Дэвид МакНайл праздновал победу на выборах. Как и МакДональд, он был шотландцем из Лоссиемоунта в Морэйшире и говорил о нем лично и о социализме вообще с тем, что я бы назвал крайней ограниченностью ума. Я сказал себе, что покину Англию, и надолго. Я взглянул на жену, внимательную, но без понимания, и добрую, но с закрытым сердцем. Она пыталась привыкнуть к моим новым друзьям, но а те шесть недель, которые я провел в Лондоне, ни разу наша совместная жизнь не стала, реальной. Я посмотрел на свою дочку Энн, сидевшую на высоком стульчике за столом. Я чувствовал свою неспособность быть отцом и сказал себе, что ей будет лучше без меня. И тут же понял, что это не так. Я знал, что уйду – не из-за тестя, не потому, что не могу быть мужем и отцом, не из-за разочарования в политике, даже не из-за миссис Бьюмон или какого-то мистического зова с Востока. Уйду потому, что я должен. У меня не было сил выбирать.
Волею обстоятельств, которые часто значат больше, чем тщательно планируемые поступки, в этот вечер я отправился навестить Успенского, в то время проживающего в отеле на площади Рассела. Это была наша первая встреча с тех пор, как несколькими месяцами раньше он покинул Турцию. Он рассказал, что в Лондоне он встретил признание и теперь читает лекции группе богословов и психологов. Я сказал о своем решении покинуть Англию и вернуться в Турцию, но хотел бы послушать некоторые из его лекций. Он ответил: «Приходите, если захочется. Но Вы не можете решать. Если Вы отправитесь в Турцию, то не потому, что решили. У Вас нет сил, чтобы выбирать. Никто не может выбирать».
Его слова, созвучные моим утренним размышлениям, и глубочайшая серьезность, с которой он утверждал, что человек не хозяин своей судьбе, странно поразили меня. Они по-новому осветили все то, что я слышал и видел за последний год. Я был уверен в его правоте и считал, что человеческая глупость проистекает не из упертости, но является следствием неспособности выбирать. Память об этом разговоре осталась со мной и постепенно притянула меня обратно в Лондон, учиться и работать с ним.
Так, неизбежно и беспомощно я возвращался в Турцию. Жена печально смотрела мне вслед. Лучше, чем я, она знала об обреченности нашего брака, но ничего не могла поделать. Поворачивая за угол Кэмбридж-роуд, я оглянулся и увидел ее у ворот отцовского дома с нашей дочерью на руках. Я уходил от жизни, к которой никогда не принадлежал, и все же не мог избежать чувства жалости и вины. Все эти недели моя мать наблюдала, не говоря ни слова. Она крайне интересовалась Мирной Конференцией, поскольку любила историю. Она одобряла мое возвращение в Турцию, трудно сказать, почему, возможно, считая, что я должен заниматься политикой.
Путешествие из Калаиса в Константинополь на Восточном Экспрессе тогда длилось четыре с половиной дня. У меня было достаточно времени поразмыслить над будущим. Множество возможностей было упущено, но я не сожалел о них. Я направлялся в Турцию, где у меня не было ни места работы, ни каких-либо перспектив, но был полон уверенности, что все будет хорошо.
По прибытии поезда на станцию Сикерджи я с удивлением увидел на платформе множество знакомых лиц. Произошло так много событий и так мало времени – около двух месяцев – с тех пор, как я уехал. Меня встретили так, будто я не уезжал. Я не был в форме, но, несмотря на мои отнекивания, считалось, что я все еще связан с секретной службой. Агенты, работающие на моего преемника, с наиболее волнительными новостями вначале приходили ко мне. Турецкие политики, которые могли убедиться, что я не беседовал с правительством Его Величества, поверили в еще большую нелепость – будто бы я работал лично на Его Величество Короля Георга V. Нужно учитывать, что традиции мабейна, корпуса неофициальных посредников, введенного султаном, все еще главенствовали в умах большинства турецких политиков. Они вообще не могли себе вооГ>| шзить устройство конституционной монархии и считали Букингемский Дворец центром паутины интриг, подобно той, что окружала Йилдиз. Я мог отрицать и шутить по поводу того, как я рад быть в мабейне Букингемского дворца или что у меня есть какая-то особая миссия в Турции, но все, что я получал в ответ – это понимающий взгляд и уверения в уважительном отношении к моему желанию сохранить секретность.
Из Анкары обо мне распространились новые слухи. Бекир Сэми-бей вернулся с рассказом, что Ллойд Джордж получил из Дворца секретные инструкции не ввязываться в неприятности с турками, а я служил при этом посредником. Это совершенно невообразимая трактовка чаепития, устроенного Ллойдом Джорджем вылилась в приглашение посетить Бекира Сэми-бея и других лидеров националистов в Трабзонде.
Но высоты своей абсурдность достигла тогда, когда мой друг Тазин-бей, все еще шеф полиции, попросил меня принять делегацию албанцев, посланных ко мне с важной миссией. Они прибыли, и после длительных уверений, что албанцы – гордый народ и хотят укрепить узы, связывающие их с Англией, сказали, что ищут для Албании нового короля и спросили, готов ли я быть претендентом на трон. Поскольку албанцы известны и более одиозными проектами, я не мог отказать себе в удовольствии и сообщил, что веду свой род от Невилля, графа Ворвика, делателя королей, и что мои предки всегда отказывались от предложения занять трон. Я быстро сообразил, однако, что пошутил неосторожно, поскольку они пригласили меня вернуться с их делегацией в Тирану и встретиться членами их правительства. Я попытался прояснить ситуацию без прямого отказа. Тазин-бей заверил меня, что я произвел очень хорошее впечатление, так как албанцы искали рослого короля! Позднее, когда Зог стал королем, я все время повторял, что моя фигура выглядела бы лучше.
В течение этих первых недель моего возвращения в Турцию, меня пришел навестить один старый друг. Это был Жак Бэй Кальдерой, настоящий мабейн султана Абдулы Хамида, который знал все и всяи был странным образом везде любимым и желанным гостем. Он сказал мне, что Аббас Хилми-паша, экс-хедив Египта, весьма впечатленный моим знанием ближневосточных событий, просит меня принять в подарок тысячу золотых соверенов. Он добавил, что экс-хедив хотел бы встретиться со мной и обсудить положение дел в Египте. Я попросил Жака Бэя передать его светлости, что с удовольствием принимаю его приглашение, но он должен знать, что никакого политического влияния я уже не имею. Несколькими днями позже я был церемонно принят во дворце экс-хедива над Босфором. Я выслушал блестящий анализ британской политики на Ближнем Востоке и доводы в пользу восстановления сильной пробританской власти в Египте. Он объяснил, как непонимание привело к его смещению. В Константинополе было совершено покушение на его жизнь. Он отправился в Швейцарию для восстановления здоровья. В это время ложные сведения его врагов убедили британцев, что он связан с турками. Он хотел бы добиться британского протектората и даже сейчас мог составить оппозицию Заглулу-паше и Вафду. Он спросил, не могу ли я быть посредником между ним и британским правительством. Я прямо сказал, что не нахожусь на службе и не собираюсь сколько-нибудь скоро возвращаться в Лондон. Он сказал, что понимает и надеется встретиться со мной вновь.
Жак Кальдерой явился на следующий день с чемоданом, полным соверенов, и сообщил, что хедив просит меня принять их, даже если сейчас я ничего не могу для него сделать. От себя он добавил, что надеется на мое согласие, поскольку сам сильно нуждается в деньгах, так что я мог бы отдать ему половину. Согласившись, я взял пятьсот соверенов. Обмен был нечестным, поскольку Аббас Хилми-паша явно считал, что таким образом покупает мою поддержку в его интригах по возвращению египетского трона. В то время я раскаивался совсем чуть-чуть, зная, что Аббас Хилми сказочно богат и часто преподносит подобные подарки людям, которые, по его мнению, могут быть ему полезными. С течением времени это дело становилось все более” и более тягостным для меня, но благодаря ему я понял, что мы годами несем последствия за наши поступки уже после исчезновения внешних результатов. Я осознал, что освободиться от прошлого можно, лишь изменив себя настолько, чтобы перестать быть тем человеком, который совершал поступки. Нечестный человек не становится честным только отказавшись от обмана, но путем внутреннего изменения, благодаря которому он теряет возможность обманывать. Прошло, однако, много долгих лет, прежде чем для меня открылось значение «внутреннего изменения».
Деньги хедива я вложил в дело и вошел в долю в коммерческое предприятие по экспорту инжира из Малой Азии в Лондон, где он был редкостью в том году. За пару недель я получил хорошую прибыль только потому, что мне повезло – я был знаком с нужными людьми. Мой старый турецкий приятель предложил вместе с ним купить шахту по добыче бурого угля. Она работала всю войну и находилась невдалеке от азиатского побережья Дарданелл и имела собственную гавань. Мы с миссис Бьюмон решили посетить шахту, хотя я ничего не знал о добыче угля. На небольшом пароходике, ходившем вдоль побережья, мы добрались до Лапзаки, а там пересели в старый форд тернер. Дороги были практически непроходимыми, а в тех местах, где мы останавливались на ночлег, нас буквально сжирали клопы. Мы проезжали по территории, по официальным сообщениям наводненной опасными бандами, но встречали только деревни, в которых турки и греки мирно соседствовали всего в шестидесяти милях от Баликессира, где турецкая и греческая армии сражались в совершенно бессмысленной войне. Я вновь преисполнился неприязни к законодателям, составлявшим Севрский и Ньюилльский договоры, и увидел, как семена будущей войны были посеяны на Балканах и Ближнем Востоке. Территории Оттоманской Империи обладали неисчерпаемыми природными ресурсами. Народы, их населяющие: турки, арабы, курды, армяне, греки – каждый имел прекрасные национальные черты, которых не хватало другим. Между ними не было ненависти, кроме той, которую разжигали профессиональные агитаторы и политики.
Я говорил обо всем этом со старейшиной одной деревни, расположенной вдалеке от главных дорог, где визит последнего европейца помнили только старики. Я был поражен его пониманием происходящего: «Мы не враждуем с греками. Веками мы живем рядом и научились доверять друг другу. У нас, турок, есть земля и фруктовые деревья, но нет денег, и мы не знаем, как продать урожай. Каждую весну к нам приезжают греческие купцы, и вместе с ними мы оцениваем урожай. Они оставляют нам деньги, чтобы заплатить за сбор и упаковку фруктов и на наши собственные нужды. Осенью мы оправляем урожай в Смирну или Пандерму. Не было случая, чтобы турок послал свой урожай не тому купцу, который оставил ему деньги, и не было случая, чтобы купец не прислал нам отчет о продаже и цене наших фруктов. Мы доверяем друг другу, почему же политические лидеры не могут довериться друг другу? Нам нужны греки, и мы нужны им. И мы, и они разорены этими дурацкими войнами». Говорил он без горечи, скорее сожалея, чем обвиняя политиков, которые не понимают, что за гармонию стоит заплатить.
Я добрался до шахты и понял, что не моту ни разобраться в ее работе, ни оценить ее эффективность. Для меня это была всего лишь дыра в горе, почти заросшая буйной растительностью. Все оборудование состояло из железнодорожной колеи и полдюжины маленьких вагончиков. Наш проводник посоветовал нам найти устабаци, управляющего, который вел все дела. Он оказался дервишем, правоверным мусульманином, готовым идти туда, куда направит его Господь. Он приказал собрать нескольких рабочих и отправить уголь на лодке в Пандерму, где был хороший спрос. Я провел там неделю, произвел мензульную съемку, оставил устабаци достаточное количество денег для выплаты месячной зарплаты и вернулся в Константинополь, чувствуя себя дураком. Совладелец шахты, в которой действительно добывали уголь, я сам ничего не делал и ничего не мог сделать. Работая таким образом, предприятие оставалось слишком маленьким для моих нужд, но его развитие выходило за пределы моих знаний и возможностей. Я привез план и образцы и повесил на дверях табличку «Дарданеллская угольная компания». Мне повезло, я вскоре продал шахту одному левантийцу и выручил сумму, достаточную, чтобы мне не ударить лицом в грязь и удовлетворить денежные потребности моего партнера.
В это время возобновились еженедельные встречи с князем Сабахеддином, но между нами больше не было ощущения отдаленности. Я узнал, что Сабахеддин сильно нуждался, правительство отказало ему в возвращении имущества, конфискованного, когда был изгнан его отец. Он был очень огорчен нежеланием принять во внимание его предложения по реформированию турецкой экономики. Миссис Бьюмон всегда присоединялась к нам и изо всех сил старалась вернуть князю мужество.
Помню одну нашу беседу о судьбе. Я рассказал принцу о разговоре с Успенским, с которым тот был знаком и которого уважал, хотя и считал менее интересной личностью, чем Гурджиев. Князь не мог признать, что Успенский прав, утверждая, что у нас нет возможности выбирать, что делать. Миссис Бьюмон была склонна принять точку зрения Успенского, но была убеждена, что все, что происходит с нами,, есть следствие наших поступков. Она сказала: «Я много страдала, и на посторонний взгляд это могло показаться несправедливым. Но для меня всегда было предельно ясно, что, какое бы страдание ни выпало на мою долю, это была моя собственная вина». Слезы заблестели на ее глазах. Я знал, что до приезда в Турцию она находилась на грани самоубийства и что с ней обращались очень жестоко. Князь был также тронут, как и я. Мы сидели в молчании, очень сблизившем нас. Казалось, что судьба – это тайна, которую никто не может ни понять, ни разгадать.
Назавтра я был очень занят, а после обеда пошел прогуляться над Босфором к Скутари. Я поднялся к старому турецкому кладбищу, простирающемуся на милю или больше вдоль холма. Передо мной открывался неописуемо чудесный вид. Наступила весна. Княжьи острова и профили Истамбула с его куполами и минаретами выступали из насыщенно-голубых вод Мраморного моря. Быстрый поток Босфора вился вокруг Леандерской башни как раз подо мной. Окруженный напоминаниями о смерти, я лениво размышлял о легенде о Герое и традиционном самоубийстве героя. Я спрашивал себя, почему люди выбирают смерть. Эхом пришел встречный вопрос. Почему мы выбираем жизнь? Меня окружали стройные кладбищенские кипарисы и надгробия с высеченными на них надписями на прекрасном персидском языке. Я сел и стал смотреть, как солнце тихо садится в море. Постепенно внимание сосредоточилось внутри меня, и я осознал, что передо мной лежит вся моя жизнь. Я не сомневался, что мне показывают будущее, но, не сомневаясь, я не верил сам себе.
Казалось, внутри меня я слышу голос, а может, и не голос, а беззвучное эхо голоса. Семь лет мне дается на подготовку, затем начнется жизнь. Мне предстоит исполнить великую задачу, но в чем она состоит, я пойму только в шестьдесят лет. И лишь в восемьдесят я осознаю свое истинное предназначение. В замирающем эхе голос – если это был голос – произнес: «Вначале ты должен научиться жить. Ты все еще не понимаешь, что есть этот мир и все в нем. Ты должен узнать это, прежде чем поймешь, для чего ты живешь.
«Облеченный в слова, этот опыт кажется даже мне неубедительным и смешным, хотя вся сцена и сейчас стоит у меня перед глазами: вот я сижу на надгробном камне и отрешенно читаю надписи, одновременно прислушиваясь к внутреннему голосу. Для другого в нем мало ценного, но я возвращался к нему снова и снова, когда жизнь теряла направление и цель, и он помог мне пережить долгие годы крайнего отчаяния.
Наутро я проснулся с жесточайшей зубной болью. По рекомендации я обратился к личному дантисту самого султана, Сэми-бэй Гринсбергу. Его приемная находилась в двух минутах ходьбы от нашего дома. В двух или трех залах, меблированных в стиле ампир, увешанных фотографиями султанов, князей и пашей с дарственными надписями их другу Сэми-бею Гринсбергу, собралась целая толпа. Не обращая на нее внимания, Сэми-бей вызвал меня и усадил в кресло. Заглянув в мой рот, он сказал: «У Вас отвратительный абсцесс. Проще всего его вскрыть, но будет больно». Не представляя, что меня ждет, с храбростью несведущего, я велел ему начинать. Без обезболивания и тому подобных мелочей, он врезался прямо в мой зуб. Я пишу эти строки почти через сорок лет, и все же воспоминание заставляет меня содрогнуться. Умирание тысячью смертей может дать среднее представление об интенсивности той боли, которую я испытывал. Но вскоре все прошло, и я понял, что попал в руки настоящего мастера. Он настоял на проведении тщательного осмотра, и, поскольку я не занимался своими зубами со времени, ранения во Франции, дела нашлось много.
Только тогда я осознал, каких мощнейших союзников могли бы обрести в дантистах политики. Я прочно сидел в кресле с открытым ртом, а он через десять или пятнадцать минут оседлал своего любимого конька и заговорил о несправедливости, которой подвергаются Правящий Дом Османской империи. Он был полностью предан князьям османской крови. Впоследствии я узнал, что практически весь свой немалый заработок он передавал тому или другому князю или княжне.
Он рассказывал мне о потери владений, незаконно конфискованных Младо-Турками. Как без всякой поддержки он обратился в Высший Религиозный Суд и объявил конфискацию недействительной и незаконной. Он имел в виду нефтяные месторождения Мосула. С мудрой предусмотрительностью, задолго до того, как нефтяной голод привлек внимание великих держав, султан предугадал неиссякаемый источник благополучия в песках Ирака и Аравии. Он решил сохранить их богатства для своих потомков, оплатил исследования этих земель из своего кармана и приобрел на них эксклюзивные права.
Затем Сэми открыл свой великий план. Императорская семья знает и доверяет мне; он уверен, что сможет убедить их наделить меня полномочиями посланника для представительства их интересов перед британским правительством на Мирной Конференции, которая собиралась для пересмотра Севрского соглашения. Думаю, я провел в кресле не менее двух часов, все это время его ожидали несчастные пациенты в переполненных залах.
Несколькими днями позже Сэми позвонил и сказал, чтобы я был готов принять конфиденциального гостя в 11 часов вечера, встретить его лично и позаботиться, чтобы его никто не увидел. Я был знаком с такими процедурами, но совершенно не был готов открыть дверь главному евнуху султана, о котором я слышал, но никогда не видел. Евнухи уже тогда были вымирающей расой – в основном берберы, кастрированные в детстве и рабами проданные во Дворец. Во времена Абдулы Хамида главный евнух был одним из главных членов мабейна, и даже при скромном Махмуде Вахидеддине они оставались влиятельными фигурами при дворе. Главный евнух был дворцовым евнухом в полном смысле этого слова. Высокий, с огромным брюхом и тонким пронзительным голосом, всегда приглушенным до шепота. Что бы он ни делал или ни говорил, казалось, он открывает какую-то великую тайну. Все, для чего он пришел ко мне, – сообщить, что султан знает, как я помогаю его племянникам и племянницам, и, хотя сам не заинтересован в наследстве своего брата, обещает свое himet – покровительство – любому, кто сможет отстоять его законные притязания. Все знали, как я умен, и были уверены, что я смогу это осуществить.
Совершенно бесполезными оказались возражения, что я едва слышал о наследстве Абдулы Хамида и никогда не обсуждал эту тему с его наследниками. Подобные отнекивания входят в обязательную часть азиатских переговоров, и евнух убедился, что я знаю процедуру, и сказал, что он хотел бы еще навестить меня. Обязательной является также и длительная беседа по окончании обсуждения предмета встречи, поэтому я узнал массу интереснейших придворных сплетен.
Следующим ходом было приглашение на обед к одному из князей. На обеде были турецкие музыканты и не менее пятнадцати перемен блюд. После мы слушали Шопена в прекрасном исполнении одной их княжон, скрытой от взоров в другой комнате. Гостей развлекали пять или шесть шутов с разноцветными яркими шариками, свешивающимися с их фесок. Они равно шутили с гостями и прислугой. О знаменитом наследстве не было сказано ни слова, и меня ни о чем не спрашивали.
На следующий день явился посланец и сообщил, что князей весьма впечатлили мои манеры и понимание печального положения Императорской семьи и что они будут рады видеть меня своим представителем, если я смогу помочь им получить некоторое количество денег, как они ожидают.
Меня интриговали и притягивали эти предложения, но не было ни малейшей идеи, как их осуществить. Я обратился к миссис Бьюмон, которая со множеством опасений и дурных предчувствий все-таки предложила познакомить меня с человеком, привыкшим иметь дело с переговорами на международном уровне, который , будучи заинтересован, мог бы помочь наследникам разрешить их финансовые трудности. Звали его Джон де Кэй, и, хотя и она, и князь Сабахеддин ранее упоминали о нем, он ни разу не вызвал моего любопытства. Она написала ему о предложении наследников и получила в ответ длинную и полную энтузиазма телеграмму, приглашающую нас встретиться с ним в Берлине. Миссис Бьюмон вначале отказалась, а затем решила поехать со мной. Сабахеддин говорил о Джоне де Кэе как о друге, которого ему прислало провидение. Я узнал, что де Кэй снабдил князяденьгами для возвращения в Турцию.
Мне не нужны были никакие документы, но Сэми Гунсберг настоял на том, чтобы я получил официальный статус и меня наделили полномочиями посланника, подписанными четырьмя или пятью наследниками. Эти приготовления заняли несколько недель, за это время я переболел необычной болезнью. Поев немного болгарского сыра, я подхватил пузырчатку полости рта и конечностей. Она крайне редко поражает человека, и вначале врачи Британской армии не смогли поставить диагноз. Когда же один из них догадался, я стал предметом медицинского любопытства, и множество докторов приходили взглянуть на меня.
У человека болезнь поражает слизистую полости рта и глотки, которые ужасно отекают и изъязвляются. Несколько дней я не мог глотать и лежал, очень страдая от боли и благодаря небо за то, что мог дышать. Никакого лечения не было известно, кроме орошения полости рта дезинфицирующими растворами, что только усиливало боль. Мое жалкое состояние никак не улучшало знание того факта, что врачи не имеют ни малейшего представления о возможном исходе болезни. Острое состояние продлилось, должно быть, неделю, затем однажды ночью, как раз после полуночи, все язвы разом открылись. Несколько часов я буквально захлебывался кровью, льющейся у меня изо рта и глотки. Когда кровотечение закончилось, я понял, что выздоровел, но был ужасно слаб. Все же через десять дней я смог отправиться в путь и двинулся навстречу приключению, прибавившего мне жизненного опыта, но и только.
Во время поездки произошло событие, утвердившее меня в ощущении общей нелепости жизни в эти первые послевоенные годы. Мы прибыли в Сзабадку, недавно аннексированную у Венгрии и переименованную в Суботисту югославами. Посланник короля, ехавший в соседнем купе, предупредил нас о том, что эта станция кишит мелкими жуликами, и посоветовал не спускать глаз с багажа. У миссис Бьюмон было немного старого дорогого кружева и хорошие меха; я заметил, как один из служителей со знанием дела пощупал их. Однако все наши вещи были под нашим присмотром благополучно уложены в багажный вагон, и мы вернулись в купе. Было очень жарко, я снял куртку. В качестве последней предосторожности я глянул в окно, когда поезд уже тронулся, и увидел дорожный чемодан, выброшенный на платформу.
Не раздумывая, я выскочил из купе и схватил чемодан. Поезд тем временем уже отошел от станции. Я остался без денег, без паспорта, без каких-либо документов, удостоверяющих личность, и даже без знания сербского. Я заговорил было по-немецки, но они не поняли или не захотели понять ни слова. Я добрался до начальника станции и, оставив ему чемодан, отправился искать британское консульство.
Случилось так, что в этот самый день по всей Сербии проводили массовые аресты коммунистов. Не удивительно, что без шляпы, верхней одежды, снятый с поезда и в придачу пытавшийся говорить по-русски, в надежде, что меня поймут, я был арестован и препровожден в ближайший участок.
Наконец нашелся кто-то, говорящий по-французски, и мое положение стало чуть лучше. Был уже полдень. Я провел много часов в ужасной жаре без еды, не имея возможности выпить хотя бы чашку кофе. Когда меня выпустили из участка, вечерело. В этом городке не оказалось ни британского консульства, ни другого представительства, и я отправился в отель в сомнительной надежде получить комнату в кредит.
Но я недооценил способности миссис Бьюмон. По совету королевского посланника, она сошла с поезда на следующей станции и со всем багажом вернулась в Суботисту, обнаружила у начальника станции чемодан и догадалась, что я рано или поздно отправлюсь в отель. Так что когда я туда пришел, в фойе сидела миссис Бьюмон с моей курткой и паспортом, а через два дня со следующим экспрессом мы продолжили свой путь в Будапешт и Прагу.
Пока мы находились в Суботисте, я встретил несколько венгров и узнал, что в городе и ближайших пригородах в основном проживают представители мадьярской нации. Благодаря некоторым политическим интригам при подписании мирного соглашения, Сзабадка отошла югославам, но область в целом была настроена враждебно к новым властям. Мне рассказали, что арестованы тысячи людей и что вся жизнь в городе превращена в хаос.
Хорошо зная, что подобные нелепые, но опасные события имеют место во всей Европе, я исполнился мрачных предчувствий. Если лидеры человечества столь безответственны и глухи, а массы пассивны и бесхребетны, что может принести будущее, как не новые ужасные войны? Мы прибыли в Берлин ранним утром, и я мог наблюдать толпы рабочих, выходящих со станции Шарлоттенбург. Свидетельства крайней нужды на их лицах произвели на меня очень тягостное впечатление. Военные магнаты в роскошных автомобилях мчались наперерез толпе. Я был поражен в самое сердце – ведь я уже успел забыть, что есть люди, которые из войны сделали деньги.
Несколькими днями позже на дороге между Берлином и Варшавой произошло событие, слишком отвечающее моим настроениям, чтобы быть аутентичным, однако, оно действительно произошло со мной. Горожане голодали, в основном из-за того, что фермеры, не доверяя новой валюте, увозили урожай обратно. Много толков вызвала всеобщая забастовка. Я ехал в Берлин и остановился, чтобы подвезти очень жалкого на вид, но мощно сложенного рабочего. Мы разговорились о забастовке, он рассказал, что она запрещена и они ничего не могли поделать. Они были готовы голодать, лишь бы удалось достать немного еды для детей. Я сказал: «Если так будет продолжаться и дальше, наверное, будет революция?» Он горько посмотрел на меня: «О, нет. Революция – политически запрещенное мероприятие». Тут я начал понимать готовность, с которой немцы отдают себя во власть авторитетов. Я припоминаю еще много таких эпизодов. Они привели меня к принятию доктрины человеческого бессилия, которую объяснял Успенский, и на которую я, впервые услышав, обратил так мало внимания.
Между тем я стоял на пороге нового, неизвестного мне мира.
Глава 8
Джон де Кэй
В мае 1921 года, когда я впервые увидел в Берлине Джона де Кэя, он являл собой величественное зрелище. Развивающаяся корона пепельных с проседью волос, большой рот, очертания которого указывали на сильную волю, бледно-голубые, но яркие глаза, удивительно красивые руки, роста невысокого, но необычайно широкого телосложения – он был знаком и позировал Родену, и голова Джона де Кэя в Tate Gallery и музее Родена в Париже свидетельствуют о том, что скульптору нравилась его модель.
Он родился в 1872 году в Северной Дакоте. Члены семьи работали на ранчо, были ковбоями. Он же страстно хотел писать. В двенадцать лет продавец газет, в девятнадцать – редактор, в двадцать два он уже владел тремя газетами. Мать – религиозный фанатик – покончила с собой в день его совершеннолетия. Он и сам горел воодушевляющей страстью, но скорее гуманитарной, чем религиозной. С растущим энтузиазмом он следил за карьерой Вильяма Дженнигса Брайана – этакой нередко встречающейся смеси из религиозной мании, политического оппортунизма и огромного невежества – и с силой всех своих журналов бросился в кампанию «Крест из золота» 1896 года. Двадцатью пятью годами позже со слезами, бегущими по щекам, он частенько цитировал Брайана: «Не надо распинать все человечество на вашем кресте из золота». Относительно немного газет поддержали кампанию, поэтому вдохновенные и хорошо аргументированные нападки Джона де Кэя на чикагские бойни привлекли широкое внимание.
Когда его герой был повержен Мак Кинли, он разочаровался в политике, продал газеты конкуренту и отправился в Мексику на поиски Порфирио Диаса, которого он представлял себе Героем-вождем, ведущим свой народ из хаоса в благоденствие. Молодой зелот и стареющий диктатор очень подходили друг другу и моментально стали друзьями. Де Кэй разработал план развертывания в Мехико-Сити производства по обработке и упаковке мяса, конкурирующего с чикагским. Он зажег Диаса своим стремлением организовать чистые, гуманные бойни с хорошими условиями труда – все, на что претендовали чикагцы и не смогли осуществить. Диас доверил ему эксклюзивную концессию на пятьдесят лет. Не получив поддержки в Нью-Йорке, где еще были слышны отголоски его кампании против мясных трестов, он отправился в Лондон со своей концессией, обаянием и обезоруживающим красноречием человека с миссией.
Одетый в традициях среднего Запада, с шестизарядным кольтом в кармане и благоухая Стетсоном, он стал вхож к одному из богатейших торговых банкиров финансового мира Англии. Мексика при Диасе была Эльдорадо для иностранного капитала, и Джон де Кэй добыл деньги, разработал и построил экспериментальную фабрику по упаковке мяса и в 1910 году стал – по крайней мере на бумаге – мультимиллионером.
Его забавляла роль ковбоя-философа, превратившегося в миллионера. Познакомившись с Винифред Бьюмон, он увлек ее с собой в Мексику. Она была его секретарем, вела хозяйство, общалась с Диасом и его министрами, передавая им часть своего собственного огня, а в свободное время делала зарисовки Мехико и мексиканцев. Де Кэй написал пьесу для Сары Бернар, одним из многочисленных любовников которой он был, отвез пьесу в Америку и включил в ее репертуар. За свой счет он публиковал книги стихов и афоризмов, считая себя настоящим стоиком, вторым Марком Аврелием.
Он претендовал называться потомком де Коси, заключил контракт на покупку замка Коси, одного из красивейших нормандских замков во Франции, и мечтал о восстановлении своего рода спустя пятьсот лет.
Тем временем дела в Мексике не ладились. Мясной бизнес процветал, экспорт увеличивался, но дряхлеющий Диас терял силы и, наконец, был свергнут. Джон де Кэй сделал ставку на его племянника Фелиза Диаса и солдата удачи генерала Хуэрту как на ближайших сподвижников его друга и патрона. В дальнейшем генерал пал от руки доблестного X. Л. Вильсона, посла Соединенных Штатов в Мексике, который, охваченный страшной личной неприязнью к Хуэрте, выступил на стороне противника под Мадеро. Когда Соединенные Штаты начали снабжать противника оружием, де Кэй, ненавидевший американский империализм, занялся покупкой вооружения в Европе для законного правительства. Продавая боны мексиканского правительства в Лондоне и Париже, он дал крупные заказы известной французской фирме, производящей оружие. Падение правительства Хуэрты и начало войны в Европе сделали бесполезной и невозможной перевозку оружия. Джон де Кэй продал французскому правительству оружие и свои права на мясную концессию.
Вторжение немцев в Марну в августе 1914 года застало его и миссис Бьюмон в замке Коси. На машине они пересекли линии фронта немцев и союзников и добрались до Парижа. Потрясение от непосредственной встречи с войной сделало из де Кэя убежденного пацифиста, он жертвовал огромные суммы денег различным миротворческим движениям. Враждебность Вашингтона, вызванная его связью с генералом Хуэртой, проявилась в Лондоне, где в 1919 году он был арестован в связи с выдвинутым против него обвинением из-за продажи мексиканских бон. Его заключили в Брикстонскую тюрьму, и, как водится в подобных случаях, все друзья отвернулись от него, за исключением миссис Бьюмон. Практически в одиночку с бездеятельными адвокатами и среди бедствий войны, она смогла добиться отказа требованию о выдачи. Они отправились в Швейцарию, и де Кэй живо включился в мирную программу Второго Интернационала. Он давал деньги на организацию съездов – вначале Бернской конференции 1919, затем, тремя месяцами позже, Амстердамской конференции, где они познакомились и завязали дружбу со многими социалистическими лидерами Европы.
Тут от общего знакомого миссис Бьюмон узнала, что де Кэй, чья сексуальная мораль никогда не была твердой, был отцом двоих детей. Она решила исчезнуть из его жизни и, не желая возвращаться в Англию, уехала в Швейцарию. Там она встретилась с князем Сабахедцином, работе которого по заключению сепаратистского мира между Турцией и союзниками де Кэй помогал деньгами. Он предложил ей вернуться с ним в Константинополь с уже изложенными последствиями.
Охваченная воспоминаниями прошлого и дурными предчувствиями, миссис Бьюмон привезла меня в Ванзее, внешний пригород Берлина, где Джон де Кэй и его новая семья жили в доме Хампердинка, композитора «Ганса и Гретель». Она хотела, чтобы я узнал жизнь, так оно и произошло. Несправедливые страдания турецких князей воспламенили де Кэя старым энтузиазмом, и за несколько дней был разработан план защиты их прав, после чего он послал меня в Лондон для переговоров с его старыми приятелями-банкирами. Впечатление, произведенное им двадцать лет назад, было столь сильным, что они серьезно восприняли его предложения, и у меня начались приключения, которые поразили бы меня еще больше, если бы я знал, насколько они далеки от обычных финансовых операций на английском рынке.
Мы с миссис Бьюмон недолго оставались в Лондоне, но много общались с Успенским. Я начал посещать его собрания, которые теперь проводились на Эрл Корт, 38 в Ворвик Гарденс, где они продолжались без перерыва семнадцать лет. Успенский стал гораздо лучше говорить по-английски, его лекции посещались известными психологами и писателями.
Задачей Успенского было разрушение у его слушателей иллюзий, которыми привыкли жить современные цивилизованные люди. Он повторял: «Вы думаете, что знаете, кто вы и что вы; но вы даже не представляете себе, насколько сейчас вы находитесь в рабстве и как вырваться на свободу. Человек ничего не может делать; это машина, ведомая внешними влияниями, но не собственной волей, которая является иллюзией. Он спит. У него нет постоянной личности, которую он может назвать «Я». Он не один, а множество – привычек, склонностей, мотивов, а его ощущение существования не более чем постоянный поток. Можете не верить моим словам, но, наблюдая за собой, вы убедитесь, что это так. Попробуйте помнить свое существование, и вы поймете, что не можете помнить себя даже в течение двух минут. Как может человек, не помнящий, кто он и что он, не знающий, что им движет, полагать, что может что-нибудь делать? Нет. Первое, в чем вы должны убедиться, что все люди, вы и я, не более чем машины. Человек не может направлять ни свою частную жизнь, ни социальную и политическую активность».
Это вызывало жестокое несогласие. Многие были уверены, что война -всего лишь несчастная случайность в общем движении человечества вперед к общему миру и справедливости. Я был потрясен, слыша столь оптимистические заявления. И в частной жизни, и в политике мой опыт свидетельствовал, что никто не может действовать по-своему и знать, что именно он делает. Тезисам Успенского нельзя было возразить перед лицом всего опыта. А люди все еще верили, что человек обладает свободной волей и может быть хозяином своей судьбы.
Возможно, моя интеллектуальная убежденность в правоте Успенского уберегла меня от ощущения разрушительного воздействия его учения, как это произошло с другими, например, с А. Р. Орагом и Морисом Николлом. Не понимал я и тех, кто заявлял, что его анализ был холодным и бессердечным. Я был среди тех, кто изумился, когда А. Е. Уэйт, известный писатель, поднявшись, заявил: «Мистер Успенский, в Вашей системе нет любви» и гордо удалился.
Миссис Бьюмон воспринимала это иначе. Слова Успенского были всего лишь страшной правдой; но, испытав на себе человеческую беспомощность, она хотела бы увидеть выход. Тогда мы проводили вместе не так много времени: она отправилась пожить со свой старой и больной матерью. Мы регулярно встречались на лекциях Успенского, где я уже познакомился с некоторыми учениками, особенно психологами. Будучи в Лондоне, я всего два или три раза видел свою жену. Моя мать познакомилась с миссис Бьюмон, и между двумя женщинами с разницей в возрасте всего шесть лет, тут же образовалась теплая дружба. Моя мать очень гордилась отсутствием у нее дурацких предрассудков и очень любила изящные беседы, восхищавшие всех друзей миссис Бьюмон.
В июле 1921 года мы вернулись в Турцию. Теперь я был вооружен полномочиями посланника, финансовыми гарантиями и контрактом, разработанным Джоном де Кэем, который казался мне справедливым, хотя и не оставлял князьям никакого шанса, если только их права не будут поддержаны каким-то независимым влиятельным лицом. Мы ехали Восточным экспрессом через Сербию и Болгарию. В Софии нас застала всеобщая забастовка, объявленная в Греции. На станциях простаивали десятки поездов, направляющихся в Грецию и Турцию. Мы могли спать в купе, но еды не было.
Чтобы как-то провести время, мы отправились на скачки. Для меня это были первые и последние скачки в жизни. Я было заразился всеобщим напряжением, но во втором заезде миссис Бьюмон, указав на одну из лошадей, сказала: «Выиграет номер такой-то». Так и произошло. В следующем заезде произошло то же самое. Я хотел было сделать ставку в следующий раз, но не имел ни малейшего представления о том, как это делается. Мы вновь наблюдали, как выиграл указанный ею номер. Если я правильно помню, так произошло четыре-пять раз.
Почему-то этот случай убедил меня в том, что азартные игры -неподходящее занятие для человека. И не из-за моральных соображений, а, скорее, из-за скрытой опасности, пренебрегать которой было бы глупо. Приехав в Константинополь, мы обнаружили, что у нас появились конкуренты. За спиной двух или трех наследников маячили горные инженеры. Мы оказались в неприятной ситуации, поскольку наследников необходимо было лишить иллюзии, что их права могут быть с легкостью восстановлены. Увидев, что за честь быть их представителями развернулось целое соревнование, они естественно, воодушевились и начали предъявлять несообразные требования.
Следующие девять месяцев были для меня крайне поучительны. Впервые в жизни мне пришлось работать в одиночку. До этого я был частью некой огромной машины, такой, как армия, и, никогда особо не подчиняясь субординации, я никогда не оставался один. В моем теперешнем положении помощи было ждать неоткуда. Джон де Кэй был далеко и ничего не знал о Турции и турках. Наши спонсоры в Лондоне ясно дали нам понять, что не пошевелят и пальцем и даже не разрешат упоминать их имена, пока не будет подписан контракт.
За шесть месяцев я не достиг особого успеха. Все шло к тому, что пересмотр Севрского Соглашения будет производиться без представителя князей. В декабре 1921 года мы с миссис Бьюмон вновь отправились в Берлин. Ванзее покрылось льдом, на котором катались молодые люди на коньках или на немыслимо быстрых ледовых лодках, и наблюдать за ними было гораздо приятнее, чем за теми толстыми берлинцами, которые лежали, развалившись на солнце полгода назад.
Джон де Кэй вовсе не был обескуражен ни трудностями, с которыми я столкнулся, ни растущей нехваткой денег. Он изменил весь план. Поскольку у нас нет полномочий посланника, чтобы представлять князей, которые хотят продать свою собственность, мы можем предложить им купить долю в американской компании, которую он собирался организовать по телеграфу. Через неделю Недвижимость Абдулы Хамида, Inc. была зарегистрирована в штате Делавер с капиталом $150,000,000 – так оценивалось имущество князей. Я должен был вернуться в Константинополь и предложить им вступить в долю, оставив за нами комиссионные в размере 10 процентов. Другая компания должна была организовать и финансировать развитие этого имущества.
Я послал телеграммы Сэми-бею Гунсбергу и адвокатам с сообщениями, что везу новые предложения и с просьбой о скорейшей встрече. Была пятница. Мы с миссис Бьюмон ехали обратно через Бухарест и Будапешт. Эта поездка так живо сохранилась у меня в памяти, что я не могу не привести два-три особо ярких происшествия. Ранним воскресным утром мы были в Бухаресте. Встречу с князьями назначили на следующий вторник, и мы заказали билеты на пассажирский пароход Ллойд Трестино, прибывающий в Константинополь в понедельник днем. Мы были единственными пассажирами, и наш багаж проходил таможенный досмотр на станции в Бухаресте. Дежурный офицер-таможенник отсутствовал. Бывший тут же французский путешественник с сардонической ухмылкой уверил нас в том, что нам придется давать взятку каждому румыну, облеченному официальной властью, и множеству неофициальных начальников. Старый служитель на станции, говорящий по-турецки, вызвался пойти и привести таможенного офицера. Прошел час, он вернулся и сообщил, что офицер ушел в церковь и придет позже. Через четыре часа мы вновь послали нашего гонца, который вернувшись, сказал, что таможенник придет после ланча. Поскольку это означало, что мы пропускаем поезд в Констанцу, я заволновался и спросил, не можем ли мы как-то задобрить офицера. Служитель просиял и сообщил, что за тысячу лей (около трех фунтов) тот, пожалуй, придет. Поторговавшись, мы сошлись на пятистах леях, но таможенный офицер не торопился. Мы пропустили экспресс и вынуждены были поехать ночным “удобным” поездом. Мы пообедали в городе и вернулись за полчаса до отхода поезда. Контролер не хотел пропускать нас на платформу, и я начал подумывать, не хочет ли и он получить взятку. Я, однако, проявил настойчивость, и он пропустил нас. Позже мы поняли причину его несговорчивости. Поезд был составлен из древних вагонов третьего и четвертого класса, а у нас были билеты первого класса. Для того, чтобы исправить ситуацию, один из служителей зарисовывал римскую цифру III и вместо нее выводил цифру I, совсем как садовники в «Алисе». Мы были признательны за твердые деревянные сиденья, поскольку любая мягкая постель была бы наполнена клопами.
В то время еще не был восстановлен Черноводский мост, разрушенный немцами, так что мы вышли из поезда и на двуколке переправились по мосту, составленному из лодок. Мы прибыли в Констанцу, когда пассажирский пароход Ллойд Трестино уже отплыл. Я пошел в пароходное агентство, где мне сказали, что на этой неделе этот рейс был единственным. Греческие суда, обычно циркулирующие вдоль побережья из порта в порт, были мобилизованы для войны с Турцией.
Я сказал, что мы хотели бы отплыть с первым же судном, покидающим Констанцу. Мы с миссис Бьюмон отправились в знаменитые грязевые ванны. Вернувшись, мы позвонили в агентство, и дежурный сказал нам, что до конца недели рейсов не ожидается. Единственное судно, которое покинет порт, -буксир с большим лихтером. Мы можем поехать на буксире, а миссис Бьюмон займет капитанскую каюту, но это будет очень неудобно. Поскольку вся поездка составляла около двухсот морских миль, а буксир делал шесть узлов в час, мы должны были прибыть на место через полтора дня – как раз вовремя для моей встречи. Я привожу эти расчеты, чтобы еще раз проиллюстрировать мою слабость: я не мог довериться ходу событий и был убежден, что все должно действовать согласно плану.
Как бы там ни было, во вторник ночью мы спустились к причалу. Предсказание французского путешественника полностью сбылось: даже чтобы войти на причал,, я должен был дать взятку дежурному охраннику. От момента прибытия в Румынию и до отъезда я был вынужден подкупать каждого официального и неофициального начальника, с которым мне приходилось иметь дело.
Буксир был еще хуже, чем описывал агент. Через несколько минут миссис Бьюмон с криком выбежала из капитанской каюты. Не только койка, но и стены, и пол были буквально облеплены клопами. Нашелся гамак, который подвесили для нее на палубе. Мы отплыли, и вроде бы все шло хорошо, но через несколько часов мы попали в тот ужасный черноморский шторм, который ежегодно уносит сотни рыбацких жизней. Эти штормы начинаются внезапно и опрокидывают даже крупные рыболовные суда. Мощный буксир с восьмидесятифунтовым лихтером качало так, что и представить себе невозможно. При такой качке мотор мог в любой момент высунуться из воды, лихтер начинал дрейфовать, затем буксир вновь двигался вперед, и, если перлинь успел натянуться, столкновение было неизбежным. Никто не держался на ногах, и каждую минуту мы рисковали свалиться за борт.
Через четыре или пять часов капитан подошел ко мне. Я сидел на палубе, вцепившись в канат. Он сказал, что боится, как бы судно не развалилось на части, и потому хочет повернуть к Бургасу. Миссис Бьюмон, не говоря ни слова, протянула ему дорожную фляжку с коньяком. Не переводя духа, капитан заглотнул ее содержимое и сказал, что будет держаться прежнего курса.
Наше состояние было невообразимо жалким. Мы промокли до костей, морская вода уничтожила запас продуктов. Воды для питья не было. Двадцать четыре часа нас болтало так, что не выдержал бы и рыбий желудок. Утром в пятницу шторм утих, мы плыли сквозь безлунную ночь под ярким светом звезд. Высохнуть нам не удавалось, и мы начинали чувствовать сильный голод и слабость. Утром в субботу позади нас взошло солнце, и мы увидели грозные черные скалы, охраняющие вход в Босфор – древние Симплегады, через которые аргонавты возвращались с золотым руном.
Когда мы плыли по Босфору, у нашего борта появилось очень маленькое судно, и молодой морской офицер в форме окликнул нас. Мы были грязными, унылыми и покрыты копотью, так что он был поражен, услышав английскую речь. Отдав честь, он предложил взять нас на борт. Мы пожали руки капитану и двум членам его команды и уплыли в Терапию, где приняли самую прекрасную ванну в жизни.
Хотя мы пропустили встречу, но узнали, что наши соперники изгнаны и князья стали гораздо более сговорчивыми. Новые предложения были слишком сложны для их понимания, но один из князей, убежденный, что сможет занять денег под американскую долю, убедил оставшихся подписать документы.
Несколько недель было потрачено на убеждение троих непокорных, но наконец, 22 апреля 1922 года я подписал контракт, согласно которому девятнадцать из двадцати двух наследников передавали все свои права компании «Имущество Абдулы Хамида, Inc». и взамен получали сертификаты. Передача только тогда становилась окончательной, когда они получали значительную выгоду.
События, имевшие место во время переговоров, мои личные отношения с князьями и княжнами и вдовами Красного султана, поведение различных влиятельных и невлиятельных посредников сами по себе могут составить целую книгу. Я узнал много нового об азиатах и с тех пор чувствовал себя как дома, общаясь с ними, но, если я бы стал писать обо всем, что помню, это вышло бы за рамки одной книги.
Глава 9
Странные переговоры
Как только контракт был подписан, мы собрали или продали все имущество, бывшее у нас в Турции. Деньги у нас почти закончились, но мы еще могли вернуться в Лондон через Берлин. Труднее всего мне было расставаться с Сабахеддином. Он был первым человеком, пробудившим во мне ощущение духовной реальности. Нежелание соотечественников серьезно относиться к планам социального реформирования глубоко огорчало и ранило его. Наши еженедельные встречи были для него отдушиной, но мы надеялись вернуться и помочь ему и его планам. Так сложилось, что я покинул Турцию на тридцать три года. За это время Сабахеддин умер в Швейцарии. Он начал пить и умер нищим. Больше я никогда его не видел, хотя мы изредка переписывались до самой его смерти.
Наша поездка в Берлин не блистала событиями. Джон де Кэй был полон планов осуществления контракта, связался с крупными американскими нефтяными компаниями, заинтересованными в Мосульских месторождениях, и завел знакомство с семьей очень богатого еврея, собиравшегося покупать землю в Палестине и знавшего, что Абдул Хамид закупил огромные площади у арабов с намерением перепродать их еврейским поселенцам. Он слышал, что оливковые рощи Абдулы Хамида дают великолепное масло для производства мыла, и собирался открыть фабрику для выработки очень престижного туалетного мыла, предназначенного на экспорт в Америку. Все эти и многие другие идеи приходили ему по мере моих докладов о различных притязаниях князей в разных странах. Он настаивал на презентации проектов в Англии и надеялся на поддержку Британского правительства в деле англоамериканского сотрудничества в развитии Ближнего Востока. Я пытался убедить его приехать в Англию, но он заявил, что его имя вызовет враждебность со стороны американского правительства, и поэтому предпочитает оставаться в тени.
Прибыв наконец в Лондон как раз перед своим двадцатипятилетием, я отправился в Министерство иностранных дел разузнать что-нибудь об отношении правительства Его Величества к нашим планам. Мои друзья были в неведении и посоветовали подождать, покуда решится судьба Севрского соглашения. Национальное правительство месяц за месяцем набирало силу. Действия союзников вносили сумятицу в нашу политику. Ллойд Джордж, вопреки всем советам, возлагал надежды на греческую армию. Было бы неверным шагом поднимать вопрос о правах князей, когда весь Средний Восток подобен готовому взорваться вулкану.
По прибытии в Лондон я все еще находился под влиянием величественных мечтаний де Кэя об улучшении мира, но, понимая, что мне придется некоторое время провести в Англии, я решил полностью отдаться обучению у Успенского.
В то время многие люди были охвачены высокими идеями – или хотя бы мечтами – о помощи человечеству. Последние два года Джон де Кэй работал над конституцией Международного Института, который он называл «Интеллект и Труд» и с помощью которого собирался претворять в жизнь идеи Второго Интернационала. Он верил, что ничто иное, как соблюдение прав человека сможет противостоять мощным государственным организациям, религии, финансам и индустрии и сохранить мир и прогресс человечества. Он был убежден, что Ум и Рука человека – естественные партнеры, а Интеллект и Труд совместно преодолеют запредельное стремление к власти, угрожающее современному миру. Он хотел быстро заработать много денег, чтобы внедрить свою великую схему во всех странах мира.
Энтузиазм и воодушевление Джона де Кэя не сделали меня приверженцем его идей, поскольку более глубоко я был озабочен опасностями, проистекающими из человеческой беспомощности и невежества, нежели угрозой олигархий, рвущихся к власти. Меня привлекали идеи Гурджиева в изложении Успенского. Наряду с этим я был убежден, что деньги могут пригодиться, и вскоре после нашего прибытия в Лондон Гурджиев стал разрабатывать план организации большого Института гармоничного развития человека. Для этого нужны были деньги. Планы Гурджиева были не менее грандиозны, чем планы Джона де Кэя. По его словам, Институт также был предназначен для обновления человечества.
Мои собственные мечты не отличались скромностью. Я собирался провести мировое исследование для выявления реальности невидимого мира пятого измерения, используя социальные идеи де Кэя и психологические методы Гурджиева. Все это должно было бы осуществиться за счет богатств Востока в виде земель и концессий Абдулы Хамида.
По возвращении в Англию Джон де Кэй пообещал предоставить в наше распоряжение достаточно денег, поэтому мы с миссис Бьюмон сняли квартиру в домах Королевы Анны. Там мы познакомились с американским биологом Т. X. Мограном, только что привезшим свою коллекцию плодовых мушек-дрозофил, с помощью которой он демонстрировал наличие генов и мутаций. Через него я вошел в круг биологов, среди которых были Джулиан Хаксли, Дж. Б. С. Холдан, Р. А. Фишер и которым я рассказал обб «Интеллекте и Труде» де Кэя и собственных планах Исследовательского Института, независимого от каких бы то ни было правительств. Все эти планы живо обсуждались, Морган говорил о бескрайних перспективах, которые открывает возможность направления будущей жизни на земле путем искусственно вызываемых мутаций. У каждого были собственные мечты.
Все это время я чувствовал полнейшую иллюзорность всего, о чем мы говорили. Каким-то образом я знал, что из имущества Абдулы Хамида, равно как и из различных Институтов по улучшению человечества, ничего не выйдет.
Через несколько недель Джон де Кэй сообщил нам, что не может снабдить нас деньгами. Денег у нас с миссис Бьюмон было мало, и мы переехали из дома Королевы Анны в более дешевую квартиру в Блумсбери.
Я начал регулярно посещать собрания Успенского на Ворвик Гарденс, 38 и маленькие группы, собирающиеся по домам разных учеников. Быстро схватывающий идеи, я был приглашен повторять и объяснять сказанное Успенским. Неделя за неделей развивалась «Система», производившая на тех сорок-пятьдесят человек, которые не пропускали занятия, огромное впечатление. Меня увлекала Гурджиевская космология, развертывающая мир за миром с собственными законами и ограничениями и геоцентрическими и антропоморфическими замечаниями, которые сводили на нет философию и теологию нашего времени. С другой стороны, всепроникающий психологический анализ служил противоядием против недоказуемых спекуляций, окружавших теософские и антропософские учения.
Длительные задержки в переговорах о собственности князей больше не беспокоили меня, и я с удовольствием посвящал все свое время днем и ночью «Работе», как последователи Гурджиева называли практикование его метода.
В это время главной моей заботой было самовоспоминание, которое Мшенский считал краеугольным камнем любой стоящей теории человеческой природы. Он побуждал нас делать все, что в наших силах, чтобы помнить себя. О результатах мы рассказывали на наших еженедельных встречах. Никто из нас не знал наверное, что такое самовоспоминание, однако вскоре стало ясно, что мы не можем произвольно помнить себя дольше двух-трех минут. Я отчаянно работал. Это был мой первый опыт «работы над собой», и новый мир открылся мне. Впервые я понял, что имел в виду Гурджиев, когда сказал в нашей первой беседе, что знать недостаточно, необходимо быть. Я был уверен, что самовоспоминание и возможность выбора тесно связаны. Успенский спросил: «Можно ли говорить о выборе применительно к человеку спящему, без постоянного «Я» и не помнящего себя?» Я ответил себе сам: «Я беспомощен и останусь беспомощной игрушкой в руках обстоятельств, пока не буду помнить себя. Все остальное – потеря времени».
Однажды Успенский сказал: «Вы не можете помнить себя без пробуждающего фактора – чего-нибудь, служащего вам будильником и срабатывающего всякий раз, когда вы засыпаете. Простейшими будильниками служат ваши привычки. Заставив себя бороться с привычками, вы сделаете их своими будильниками». Мы все попробовали так сделать. На следующей неделе наш товарищ поделился с нами результатом, который столь поразил меня, что я не в силах его забыть. Он рассказывал: «Я решил бросить курить. День или два это было прекрасным будильником, но потом стало слишком легко. Вечером, направляясь сюда, сидя в поезде, я говорил себе, что бросить курить гораздо проще, чем я себе представлял, и это не может служить будильником. Так, болтая сам с собой, я случайно взглянул на свою правую руку, в которой дымилась наполовину выкуренная сигарета. Я был потрясен и впервые осознал, насколько мы действительно спим».
Через несколько недель нам стало ясно, что борьба с вредными привычками может служить пробуждающим фактором лишь на короткое время. Тогда Успенский сказал: «Нужно принести жертву. Без жертвы ничего нельзя достичь. Попытайтесь пожертвовать самым ценным для вас, только тогда вы поймете, какой это труд – вспоминать себя». На следующей неделе одна женщина взяла слово и с глубоким волнением рассказала нам следующее: «У меня есть чайный сервиз, принадлежавший еще моей прапрабабке. Мы храним его четыре поколения, не разбив ни чашки. Я всегда мою его сама, никому не доверяя. Я сказала себе: «Смогу разбить одну чашку – смогу помнить себя», но я не решилась сделать это. Я так расстроилась, что не спала всю ночь и вздрагивала каждый раз, как вспоминала о чайном сервизе. Что же мне делать?» Успенский холодно ответил: «Если чашка значит для вас больше, чем самовоспоминание, что вы можете сделать? Ничего».
Психологические исследования сопровождались замечательной демонстрацией гурджиевского представления о Вселенной и законах, управляющих ею. Успенский призывал нас находить примеры и соответствия для тех идей, которые он объяснял. Это подвигло меня к изучению восточных религий и языков. Я был убежден, что священные книги индусов и буддистов – неиссякаемый источник мудрости, но вскоре понял, что истинное значение священных книг недоступно в переводах и комментариях. Я заставил себя выучить языки настолько, чтобы понимать оригинальные тексты. В школе Востоковедения я изучал санскрит и пали. Мне повезло встретить настоящего учителя в М. X. Канхере, брамине Сама Веда из Бенареса. Он был святым человеком и прекрасным музыкантом. Происходя из ортодоксальной индийской семьи, он покинул свою касту и отправился в Англию учить. Он был убежден, что его долг – способствовать взаимопониманию между христианами и индусами.
Кое-какое представление об азиатском отношении к святым людям я получил, когда мы с миссис Бьюмон привезли к нему Махараджу Гэквара из Бароды. Его отец, известный как Эллиот из Бароды, был учителем и советчиком сына, который высоко чтил его память. Гэквар остановился в отеле «Гайд-парк», где, вместе с сопровождением, занимал целый этаж. Заинтересовавшись тем, что я изучаю санскрит, он попросил меня познакомить его с моим учителем. Несколькими днями позже, мы привезли к нему Канхеру, жившего в бедных кварталах Патнэя. Когда Канхера зашел в комнату, Гэквар упал на колени и просил благословить его. С отрешенностью, присущей только скромности и святости, брамин благословил его.
Наряду с санскритом, я изучал пали под руководством миссис Рис Дэвис, которая вместе с мужем одной из первых сделала возможным изучение ранних буддийских текстов в Европе. Раз в неделю я отправлялся в ее дом на Суррейских холмах. Мы часами говорили о том, что истинное учение Будды искажено толкователями и обезьяньими подражателями. Она не верила, что Гаутама Будда действительно учил, что у человека нет души и что отсутствует Высшее Существо. Она твердо верила и рассказывала мне об опытах, убедивших ее в том, что она жила во времена Будды и была монахиней Дхаммадинной, одной из известнейших женщин-учениц Гаутамы.
Миссис Рис Дэвис помогла мне понять психологию буддийского религиозного опыта. Наши длительные дискуссии, касающиеся истинного значения слов, относящихся к различным психическим состояниям, сыграли немаловажную роль в моем убеждении, что весь религиозный опыт опосредуется одним паттерном, независимо от вида религиозных верований и обрядов.
Я интересовался не только языками и религиями Азии. Я чувствовал свою причастность ко всему, что там происходило. Вступив в Общество Центральной Азии, я выступал на заседаниях, касающихся проблем Ближнего и Среднего Востока. Помнится, президентом был сэр Валентин Чирол. Он невзлюбил меня и обычно пропускал мимо ушей мои замечания, сопровождая их намеками на некоего неисправимого турка. Главным моим союзником был командир Кентворт, позднее лорд Страболги, – странная смесь восхищения и непоследовательности.
Собрания у Успенского занимали три или четыре вечера в неделю, днем я работал либо в Школе Востоковедения, либо в библиотеке Британского Музея. Я стал одной их тех молчаливых фигур, которые ждут открытия библиотеки, забирают огромное количество книг, заказанных накануне, и целый день читают и делают записи.
В то время мы с миссис Бьюмон, весьма стесненные в средствах, жили в Блумбсбери. Джон де Кэй вроде бы уже выслал нам деньги через американскую компанию, но по какой-то причине они до нас еще не дошли. Мы продали все и заложили бриллианты миссис Бьюмон, и, наконец, не осталось ничего. Ни один из нас не мог решиться обратиться за помощью к семье.
За квартиру не было уплачено, но мы все же получали одноразовое питание. Мы узнали голод и были благодарны за этот опыт, важный, по моему мнению, для понимания человеческой природы. Однажды доктор Миззи, богатый мальтийский юрист, участвующий в планах Джона де Кэя, обратился к нам с просьбой показать ему Лондонский Зоопарк. Стоял жаркий август 1922 года. Миссис Бьюмон сказала мне: «По крайней мере, у нас будет ланч», но, приехав, он объявил, что специально поел рано, чтобы хорошенько все осмотреть. Мы ходили и ходили по Зоопарку, пока не приблизилось время пить чай. Теперь мы надеялись на хорошую чашку чая. Очевидно, он не догадывался о наших чаяниях и в 4:30 улетучился, крайне довольный столь детальным осмотром. Мы были совершенно вымотаны и едва доплелись домой, причем у нас не хватало денег даже на чашку чая.
Этим вечером среди наших вещей я обнаружил тридцать пять турецких лир, которые на следующий день обменял на пять или шесть английских фунтов. Мы почувствовали себя богачами, а через несколько дней получили перевод из 1ермании. Между добровольным голоданием и голодом из-за отсутствия денег есть большая разница. Позднее меня заинтересовало влияние голодания на отношения между умом и телом. Конечно, его значение огромно, однако, хотя я практиковал его множество раз, я так и не смог к нему привыкнуть и с содроганием ожидал воскресного вечера, когда я прекращал всякий прием пищи до утра вторника. В добровольном голодании есть серьезный недостаток, который я наблюдал в себе и других людях. Он состоит в возникающем чувстве собственного превосходства и стремлении рассказать всем о своих достижениях. Обнаружив это, я прекратил хвастаться и гордиться собой. Я полагаю, что человек должен быть свободен от самолюбия, прежде чем он начнет заниматься аскетическими техниками. Только скрывать их от других людей тоже недостаточно, поскольку это усиливает чувство собственного превосходства, что гораздо больше вредит душе, нежели алчность.
Вынужденный голод, проистекающий из крайней нищеты, совсем другого рода. Это состояние мы разделяем с тысячами миллионов других бедняков. Мы не изолированы друг от друга, напротив, возникает чувство общности. Более того, подобное страдание всегда сопровождается пониманием того, что многие находятся в еще более худшем положении, без надежды на изменение ситуации. Добровольное голодание хорошо, практикуемое совместно, как в Исламе. Голод во время Рамадана – это долг, исполнение которого не требует каких-то особых способностей. При этом богатые разделяют ощущения бедняков и осознают необходимость делиться своим богатством.
Ведя такой образ жизни, слушая лекции Успенского о космической незначительности человека и нашей несостоятельности как индивидуумов, я однажды получил приглашение на ланч в Литературном клубе от Рамзая МакДональда. Он стал лидером оппозиции и силой, с которой нельзя было не считаться. Эта встреча сохранилась в моей памяти, поскольку я впервые принял решение, основываясь на видении будущего, открывшегося мне на кладбище в Скутари годом раньше. После ланча мы поднялись по величественным ступеням и расположились на площадке под позолоченным Аполлоном, попивая кофе. МакДональд заговорил о том, что будущее человечества связано с тем умеренным социализмом, который представляет Второй Интернационал. Лейбористы придут к власти, но им потребуется молодой человек с разносторонним опытом. Особенная нужда была в человеке, разбирающемся в иностранных делах. Он вспомнил, как я агитировал за него на трагических дополнительных выборах в январе 1921, и подумал, что я мог бы стать подходящим кандидатом от лейбористов на следующих всеобщих выборах. Он слышал мои хорошие выступления в недавно открытом Институте международных дел. Если я пройду в Парламент и произведу там хорошее впечатление, он позаботится обо мне.
Его предложение имело смысл. Он мне нравился так же, как и Сноуденсы, и никакие силы не препятствовали мне принять это предложение. Но, глядя на степенных старших членов клуба, шествующих вверх и вниз по ступенькам, приветствующих МакДональда и с любопытством поглядывающих на меня, я почувствовал, насколько все это не вписывается в паттерн моей жизни. Тогда и еще в продолжении многих лет я страдал распространенной человеческой слабостью неумения говорить «нет». Я извинился, сославшись на нехватку денег для участия в выборах, но сказал, что ожидаю поправки своих дел. Он просил меня сообщить, когда я приму решение.
Необходимость выбора предстала передо мной неожиданно, через несколько дней после нашей встречи. Успенский объявил, что собирается устроить специальные встречи по средам. В это же время происходили заседания Института международных дел. Оставив последние, я бы быстро потерял авторитет знатока Ближнего Востока. Меня весьма вдохновлял разговор с Арнольдом Тойнбеем, поразившим меня потрясающим знанием внутренней подоплеки истории Оттоманской Династии, о которой я узнал преимущественно из первых рук, а он – читая книги. Его уверенность, что я мог бы писать статьи о Среднем Востоке, совместно с предложением Рамзая МакДональда, открывали привлекательные и волнующие возможности.
Я обсудил это предложение с миссис Бьюмон. Она отказалась как-либо влиять на мое решение, но, как я понял, она считала, что я должен заняться политикой. Ее многочисленные связи с лидерами старой либеральной партии, оппозиционной Ллойду Джорджу, могли бы мне помочь. Вечером в среду я пошел на занятие к Успенскому и затеял дурацкий спор об органической эволюции, которую он отрицал. Вооруженный фактами, почерпнутыми у Т. X. Моргана, я упомянул о мутациях – слово, которое Успенский не знал или делал вид, что не знал.
Я слышал свой голос, злой тон, замаскированный смирением, с которым я представлял свои возражения. На занятии присутствовало еще сорок-пятьдесят человек, и я ощущал их неприятие. Почти сорок лет спустя одна шотландская дама рассказала мне, что ненавидела меня в тот вечер и никогда не простила, что я спорил с Учителем.
В тот вечер я вышел из Ворвик Гарденс один. Я злился на себя из-за собственных тупых умствований, которые не приносили ничего хорошего. Я говорил себе: «Это пустая трата времени. Я больше не буду ходить на лекции Успенского и посвящу себя политике». Одновременно с этим в какой-то глубине сознания я понял, что должно произойти в действительности. Я уйду из Института международных дел. Напишу Рамзаю МакДональду, что не могу заниматься политикой. Брошу все и пойду за Гурджиевым и Успенским.
Этим планам не суждено было сбыться. В Лозанне открылись переговоры по выработке нового мирного соглашения с Турцией. Джон де Кэй заручился обещанием одного из знаменитейших юристов Америки, Самюэля Унтермайера, действовать как представитель наследников султана. Тут все мои намерения захлебнулись в потоке восторга, который у меня вызвал первый контакт с международным большим бизнесом и финансовым миром.
Я должен был встретить Унтермайера в Мюнхене и ответить на все имеющиеся у него вопросы. Я отправился первым же поездом, но, прибыв в Мюнхен, обнаружил, что Унтермайер собирается в Париж на собственном поезде. Он взял меня с собой. Его путешествие было блестяще обставлено, и тут я впервые столкнулся со странным явлением американской роскоши. Она существенно отличалась от спонтанной расточительности Гэквара из Барода, возможно, гораздо более состоятельного. Между Мюнхеном и Парижем Унтермайер переварил всю нашу историю. Он попросил меня начать с истории и географии оттоманской Империи, пройтись по династическим взаимоотношениям, рассказать о землях и концессиях Абдулы Хамида, политике и отношениях правительств союзников. Он сам прочел решение Высшего Религиозного трибунала, объявившего незаконной конфискацию собственности Абдулы Хамида Молодыми Турками.
К тому времени, как мы добрались до Парижа, он все обдумал. «Выиграть это дело может не трибунал, а только мировое общественное мнение», – заявил он. «И я намереваюсь обратиться прямо в этот трибунал». Он собрал международную пресс-конференцию – событие в то время новое и странное в Европе, пригласив множество корреспондентов ведущих американских и европейских газет. Он объявил, что наследники Абдулы Хамида наняли его представлять свои интересы и что крупные финансисты Америки готовы развивать их концессии во благо всем участникам. Потенциально богатства Ближнего Востока могли изменить экономическое равновесие в мире. Я слушал пораженный, как, словно по мановению волшебной палочки, он претворял в жизнь те идеи, которые только приходили мне в голову. Имя Унтермайера было связано с нашумевшей перекрестной проверкой Джона Д. Рокфеллера и Пьерпонта Моргана, и газеты были готовы напечатать любое слово, исходившее из его уст. Таким образом, за один вечер история Абдулы Хамида приобрела мировую известность.
Унтермайер отправился дальше в Лондон, а я остался в Париже и встретил не менее значительную фигуру в лице Уолтера Тигла, президента Standard Oil Company из Нью-Джерси, прибывшего в Париж несколькими днями позже и остановившегося в королевском номере в «Ритце». Сэм Унтермайер столь хорошо подготовил почву, что Уолтер Тигл без единого вопроса выразил готовность Standard Oil Company заплатить 100,000 $ наличными за права на концессии наследников и два с половиной процента прибыли компании, которая будет владеть концессиями. Я сказал, что, по-моему, мы можем договориться; он заверил меня, что доля наследников будет поддерживаться на постоянном уровне, даже если нефтяные интересы компании изменятся.
Позвонив де Кэю, я все ему рассказал. Тут он сделал главную ошибку, переоценив наши силы, и потребовал миллион долларов наличными и большую долю в Компании. Я ожидал некоторого торга, но, очевидно, Standard Oil Company собиралась заплатить столько и не желала торговаться, тем более, когда на нее давили. Уолтер Тигл сказал: «Передайте своему другу де Кэю, что он упустил свой шанс. И советую Вам, молодой человек, запомнить это и не пытаться впредь прыгать выше головы».
Я проводил Унтермайера в Лондон, но его интересовала уже другая схема. Он заявил, что, пока идет мирная конференция, делать нечего, и он попытается убедить Государственный департамент поддержать интересы американской компании Абдулы Хамида.
Эти события происходили в октябре 1922 года. В ноябре я уже был в Лозанне и остановился с миссис Бьюмон в отеле «Beau Rivage». Медленно и скучно тянулись обсуждения. На Рождество организовали грандиозные празднования, все делегаты были приглашены на костюмированный бал. Я оделся бедуином, а на голове была шапка, подаренная мне Шерифом Али Хайдаром. Хаим Наум-эффенди, главный рабби Турции, был важной закулисной фигурой. Греки чрезвычайно уважали его за осведомленность в мировых делах. Мы познакомились и сдружились случайно, поскольку вместе с одним японским бароном брали уроки танцев у одной русской дамы. Все это было нелепо, но не более, чем сама эта конференция. Исмет-паша, глава турецкой делегации, приехал с определенными полномочиями и не собирался уступать ни на йоту. Председательствующий лорд Карсон рвал и метал из-за собственной беспомощности. Исмет-паша был глуховат, причем его глухота очень зависела от предмета разговора. Четвертого февраля, входя в огромный бальный зал, я услышал, как лорд Карсон высказывает свой ультиматум: «Настал тот момент, когда тянуть время бесполезно. Делегации союзников пришли к соглашению, что не допустят дальнейших дискуссий». Я слишком хорошо знал, что итальянцы и французы в.едут переговоры за нашей спиной, и Исмет-паша также знал об этом. Его глухота стала полной. Карсон прервал конференцию. Когда он вернулся в Лондон, «Spectator» [«Очевидец»] написал: “В 1878 Дизраэли привез мир без славы; лорд Карсон привез славу без мира».
За трехмесячный период не было достигнуто соглашения по поводу такой мелочи, как статус Имперских Штатов, но плелись сложнейшие интриги и велись закулисные переговоры, касающиеся нефтяных и других концессий. Я поехал в Париж на встречу с Уолтером Тиглом, интерес которого к концессиям Абдулы Хамида вроде бы медленно возвращался. Воспользовавшись выходными, я отправился в Институт Гурджиева в Фонтенбло. Там была развернута бурная деятельность. Строительство Дома Обучения, предназначенного для практикования упражнений,, завершилось, и на следующей неделе планировалось его открытие. Здание построили практически из самолетного ангара, купленного Гурджиевым за бесценок. Ходило множество рассказов о тех невероятных переживаниях, которые испытывали его строители. Многие англичане оставались в Prieure всю суровую зиму. Там я впервые познакомился с Катериной Мансфилд за неделю до ее смерти. Гурджиев пытался лечить ее от туберкулеза, для этого она спала на сеновале над коровником. Ораг, ненадолго приехавший в Prieure, сказал мне, что намерен продать «New Age» и полностью посвятить себя работе с Гурджиевым.
Приподнятая, доверительная атмосфера в Prieure разительно отличалась от жалкого притворства Лозанны. Я хотел бросить все и остаться с Гурджиевым. С ним самим я говорил всего несколько минут. Представляя меня Катерине Мансфилд, он сказал: «Это друг одного турецкого князя, моего друга». Я боялся, что она заговорит о книгах, так как не читал ни слова, написанного ею. Вместо этого она сказала: «Почему бы Вам не привести сюда вашего турецкого князя? Здесь он найдет все, что ищет». У нее был такой голос, что я преисполнился решимости последовать ее совету. Гурджиев пригласил меня остаться на следующую неделю и присутствовать на открытии Дома Обучения, для чего готовилась специальная церемония. Дела заставили меня вернуться в Лозанну, так я пропустил драматический момент смерти Катерины Мансфилд и открытие Дома Обучения, не удалось мне и привести в Prieure князя Сабахеддина. Он и Катерина Мансфилд каким-то образом связаны в моей памяти, возможно, той утонченностью, присущей им обоим, которая слишком тонка для этой земли.
Возвращаясь в Париж ранним утром в понедельник, я говорил себе: «В этом весь ты – занимаешься менее важными делами и уходишь от того, что тебе наиболее необходимо». Хотелось бы оставить все и пожить в Prieure. Но, к несчастью, у меня совсем не было денег, а я знал, что все живущие там делают большие денежные взносы.
Вернувшись в Лозанну, я обнаружил, что поддержка американцев, на которую мы так надеялись, значит не больше, чем надежда на торжество справедливости. Пятого февраля конференция была закрыта, и я вернулся в Англию. Правительство Бонара разваливалось. Премьер-министр ушел в отставку и был заменен Станли Болдуином. Восходила звезда МакДональда, но я уже сжег все мосты. Были основания полагать, что британская политика станет более конструктивной. Я узнал также, что турецкая и американская делегации в Лозанне договорились о соблюдении частных прав, включая права имперской семьи.
22 апреля, ровно год спустя после подписания соглашения с князьями, я вернулся в Лозанну. Ситуация значительно изменилась. Государственный департамент гарантировал Честерскую концессию и склонялся к тому, чтобы оставить все как есть. Инициатива перешла к итальянцам. Синьор Моргана, итальянский делегат, настолько расположил к себе Исмет-пашу, что остальные вынуждены были признать его главенство. Я несколько раз встречался с Исмет-пашой, чья поддержка в нашем деле была бы неоценимой. К сожалению, Турецкая Национальная Ассамблея в Анкаре только что обнародовала закон, согласно которому любые попытки восстановления султаната жестоко преследовались. Исмет-пашу мало трогали мои уговоры, что лучше гарантировать право князей, чем ждать, пока они, обездоленные, будут искать защиты на стороне.
Шансов быть услышанным у меня почти не осталось, когда американская делегация потеряла к нам интерес после гарантирования положения их нефтяных и железнодорожных компаний. Тем не менее, с помощью старого знакомого, младшего члена турецкой делегации, нам удалось изменить ужасный пункт Севрского Соглашения, дававший имперские привилегии странам-победителям, на нейтральную формулировку, гласившую: «Юридические основы и права, изложенные в кодексе гражданского права не будут изменены». Это оставляло нам возможность доказать права принцев, опираясь на турецкие законы, и это было лучшее, на что мы могли надеяться.
Как только 8 июня было достигнуто мирное соглашение, я немедленно отправился из Лозанны в Лондон. Джон де Кэй, хотя и не присутствовал на переговорах, финансировал нашу неофициальную делегацию. По возвращении в Лондон у нас осталось совсем мало денег, я не представлял себе, как мы сможем противостоять законникам полдюжины государств, от Триполи и Греции до Ирака и Палестины. После восьмимесячного политического маневрирования я проникся непреодолимым отвращением ко всему этому. Я видел, как за короткое время средства приобрели большее значение, чем цель. Я потерял связь с теми духовными целями, которым, как я считал, служит вся моя деятельность.
Успенский, выслушав рассказ о моих переживаниях, посоветовал мне на некоторое время отправиться к Гурджиеву в Фонтенбло.
Глава 10
В Фонтенбло с Гурджиевым
В Фонтенбло я поехал один. Миссис Бьюмон считала своим долгом присоединиться к больной матери в Даксе, недалеко от Биаррица, где та проходила лечение. Я писал ей каждый день и, так как она сохранила все письма, могу до мельчайших подробностей восстановить события, связанные с моим пребыванием в Prieure. Там произошло так много всего, что, полагаясь лишь на свою память, не могу поверить, что прошло только тридцать три дня.
За время пути я очень устал и чувствовал себя не в своей тарелке. В Лондоне ходило много рассказов о трудностях жизни в Prieure. Ораг, критик и журналист, блестящий мыслитель, никогда не работавший руками, приобрел мощные мускулы и грубую кожу рыбака и крестьянина. Морис Николл, психоаналитик, покинул толпу своих почитателей на Харлей-стрит и превратился в рабочего, а его жена в служанку. Состоятельные и именитые члены группы Успенского были в шоке, поняв, что им нравится работа поварят и посудомоек. Я был не готов к такой жизни, но чувствовал крайнюю необходимость вырваться из той духовной тюрьмы, в которой оказался.
За восемь месяцев, прошедших после моего приезда, Prieure сильно изменился. Построили Дом Обучения и начали работу над русской баней. В Доме Обучения царила атмосфера, напомнившая мне мевлевскую текку за Адрианопольскими воротами Истамбула. Но это было лишь первое впечатление, очень скоро рассеявшееся: во всем чувствовался Гурджиев и только Гурджиев. Здание насчитывало около сотни футов в длину и тридцать в ширину с возвышением на одном конце и низкой галереей 10-12 футов шириной, окружающей пространство, где на подушках, брошенных прямо на земляной пол, кружком сидели ученики. Напротив возвышения размещались две ложи, частично скрытые занавесками, из-за которых мадам Островская, жена Гурджиева, обычно наблюдала за «занятиями». По углам били фонтаны, а вручную разрисованные окна напоминали цветное стекло. Раньше это помещение казалось скорее декорированной сценой. Теперь же оно приобрело столь сильные и определенные черты, что никто из вошедших туда не мог противостоять его воздействию.
В субботу, в день моего прибытия, упражнения исполнялись в тех же белых костюмах, что я видел в Константинополе, были допущены посетители из Парижа. Представлялись те же ритмические движения и ритуальные танцы. Были также и различные демонстрации телепатического общения, сильно поразившие меня в тот раз; позднее мне показали трюк, посредством которого они исполнялись.
Русских насчитывалось двадцать пять-тридцать человек и примерно столько же гостей-англичан. Французы и американцы в тот раз отсутствовали, а русские и англичане практически не разговаривали в основном из-за языкового барьера.
Мне в этом отношении повезло больше. По прибытии меня приняла мадам де Гартман в элегантной гостиной на первом этаже замка и сообщила, что Георгий Иванович, так Гурджиева называли русские, встретится со мной сегодня же после обеда. Мы говорили по-турецки без переводчика. Он спросил о князе Сабахеддине и тут же заговорил о различии между Бытием и Знанием, словно бы продолжая наш разговор в Куру Чешм двухгодичной давности. Я записывал все беседы с ним, поэтому почти дословно привожу их даже после всех этих лет.
Он сказал: «У Вас уже слишком много знаний. Они останутся теорией, если Вы не научитесь понимать не умом, а сердцем и телом. Сейчас бодрствует только Ваш ум, тело и сердце спят. Продолжая в том же духе, Вы добьетесь, что заснет и Ваш ум, и никогда в Вашу голову не придут новые мысли и идеи. Пробудить чувства Вы не в силах, но Вы можете разбудить тело. Став хозяином своего тела, Вы начнете постигать Бытие.
Для этого взгляните на тело как на слугу. Оно должно подчиняться Вам. Оно невежественно и лениво – научите его работать. Если оно сопротивляется, будьте к нему безжалостны. Помните, что Вас двое – Вы и тело. Став хозяином своего тела, Вы обретете власть над чувствами. Теперь Вам не подчиняется никто: ни тело, ни чувства, ни мысли. Но с мыслей Вы начать не можете, потому что не можете отделить себя от них.
Этот Институт создан, чтобы помогать людям работать над собой. Можно работать много или мало, как угодно. Люди приходят сюда по разным причинам и получают то, что ищут. Любопытных мы удивляем. Для ищущих знание мы устраиваем научные опыты. Но если вы пришли за Бытием, то должны работать над собой. Никто не в силах сделать эту работу за вас, но вы не можете создать для себя условия. Условия создаем мы».
Я сказал, что устал от самого себя и хочу измениться. Он ответил: «Начните с начала. Поработайте на кухне, потом в саду, покуда не научитесь владеть своим телом». На вопрос, надолго ли я останусь, я сказал, что не знаю, это зависит от мирного соглашения с Турцией. Он не проявил никакого интереса и подвел итог: «Это не имеет значения. Начинайте, а там посмотрим».
Я был представлен русскому средних лет, доктору Черноволу. Он чем-то напоминал мне Гурджиева, но с более внушительной длинной бородой и менее впечатляющей головой. Он показал мне мою комнату: маленькая клетушка в служебной части замка. Мебели было мало, а грязи много. В первый день я был предоставлен самому себе и бродил по саду. Позади замка был обычный сад с прудами, полными водяными лилиями. За ним шла узкая липовая аллея, с широким проходом посередине и скамейками на каждой стороне, окружавшими небольшие лужайки. Аллея заканчивалась большим круглым прудом. Справа был Дом Обучения, слева – каменоломня, предназначенная для строительства русской бани. Там же находились небольшие загончики с коровами, овцами, козами и большое огороженное место для кур; свиней не было. За загонами в направлении Сены поля заканчивались лесом с огромными елями, буковыми деревьями и дубами. Через лес дорога вела к огромной лесопилке, где строительный лес распиливали на доски.
На третий день я отправился работать на кухню. Я догадался, что некоторые идеи Гурджиев почерпнул у дервишей, потому что, например, в мевлевской текке каждый новый член Дедеджиана проходил двадцать одну ступень служения общине. Первым заданием неофиту была работа на кухне.
Я ничего не знал о кухонных делах, равно как и вообще о домашнем хозяйстве. Для начала мне велели вымыть на кухне и в буфетной пол. Там было довольно грязно, и я вылил туда море горячей воды, с гордостью наблюдая ту легкость, с которой от пола отставала грязь. Неожиданно я понял, что не имею понятия, как собрать всю ту воду, которая затопила пол. В этот момент на высоком пороге появилась мадам Успенская, вся в черном, с темными каштановыми волосами и блестящими глазами. Я не видел ее более двух лет, со времени наших встреч на острове Принкипо. Она хихикнула, как девочка, кинула на пол ворох кухонных тряпок, встала на колени и принялась вытирать воду и выжимать ее в ведро.
Я ощутил всю свою несообразительность, потому что не смог догадаться о столь простом действии, и тут же принялся за дело. Каждый день набиралось с десяток таких простых уроков, больно сталкивающих мое практическое невежество и ментальные амбиции. В мои обязанности на кухне входила раздача завтрака до восьми утра, когда люди возвращались с утренних работ. В первые же три дня я узнал такое о человеческой природе, о чем едва ли мог подозревать. Еды было в обрез, а все были голодны. Порций хлеба, масла, джема и каши хватало примерно двум третям присутствующих. Отвратительный напиток, называемый «кофе», по-моему, приготавливался из желудей по особому рецепту Гурджиева.
Те, кто раньше приходил с работы, брали себе больше положенного. Собирая тарелки и ложки, я слушал и наблюдал. Я едва ли мог поверить, что эгоизм, равнодушие и злоба, обычно глубоко скрытые, проявляются столь явно во время обычного завтрака. Я начинал понимать, что имел в виду Гурджиев, говоря, что все в Институте создает условия для работы.
Однажды вместо оттирания пола, мне велели растирать в ступке корицу. Мне рассказали, что в то время Гурджиев не ел ничего, кроме молотой корицы и сметаны. Ни дня не проходило без разнообразных, неожиданных, часто необъяснимых тсобытий.
Через несколько дней меня перевели на лесопилку. Там главенствовал Александр де Зальцман. Огромную двуручную пилу длиной около двенадцати
футов держали двое, причем один находился в весьма неустойчивом положении, а второй в глубокой яме. Стволы деревьев восемнадцати дюймов в диаметре распиливались на доски толщиной три дюйма. Работа была изнурительная, на солнцепеке. Де Зальцман задавал темп. Он так ловко передвигал огромные бревна багром, что я поинтересовался у одного из русских, где он этому научился. Тот уверенно ответил: «Всю свою жизнь он прожил в Кавказских лесах и до войны служил лесным инспектором». В действительности, оказалось, что он был знаменитым московским декоратором, а позднее помощником Жака-Далькрозе и никогда не держал в руках пилы, пока Гурджиев не научил его примерно за месяц до моего приезда. Овладевание совершенно новыми навыками за короткий срок было частью обучения в Гурджиевском Институте.
С лесопилки я отправился в каменоломню, где неимоверно тяжелый известняк из местного леса разбивали на куски для построения русской бани. Юный русский, которого называли Чехов Чехович, отвечал за эту работу. На второй день я должен был разбить огромный кусок известняка. Чехович сказал, что из него Гурджиев собирается сделать дверные и оконные перемычки в бане. Мы не могли вытащить его и решили разбить долотом и ломом. Часа два наши усилия не производили на камень никакого впечатления, как вдруг неожиданно появился Гурджиев, нарядно одетый. Позднее я узнал, что он только что вернулся из Парижа, где пробыл целую ночь. Ни говоря ни слова, он остановился на краю ямы и наблюдал за нами. Мы вновь набросились на камень. Внезапно Гурджиев скинул сюртук, взял молоток и долото у одного из русских, тщательно примерился, поставил долото и три-четыре раза ударил по нему молотком. Он обошел камень и опять ударил. Так он повторил не более десяти раз, когда огромный кусок, весивший, должно быть сотню фунтов, треснул и отвалился. Гурджиев еще несколько раз повторил эту операцию и в результате остался осколок вполовину исходного. Гурджиев сказал: «Поднимайте». Мы собрались с силами, и гора пошла наверх, а потом мы оттащили ее к бане.
Эта сама за себя говорящая демонстрация умения живо отпечаталась в моей памяти. Но история имеет продолжение. Спустя более двадцати пяти лет я сидел за столом с Гурджиевым в Париже, а Чехович, седой и плешивый, стоял перед нами. Гурджиев рассуждал о джиу-джитсу, говоря, что в Центральной Азии он научился более совершенному искусству, чем японское. Оно называлось физ-лез-лу, и он подумывал об обучении ему европейцев и искал подходящего тренера. В молодости Чехович был чемпионом по борьбе, так что естественно напрашивалась его кандидатура. Тут он обернулся к Чеховичу со словами: «А помнишь, в Prieure, когда мы строили русскую баню, ты не смог отломить кусок камня для дверного проема? Я наблюдал за тобой и понял, что ты не умеешь видеть. Так я оставил идею обучения европейцев физ-лез-лу».
Чехович, который восхищался Гурджиевым как если бы он был святым воплощением, замер и сказал: «Да, Георгий Иванович, я помню». Слезы потекли по его щекам. Я вздрогнул, полный сочувствия. Событие, завершившиеся через двадцать шесть лет, не только выявляло значение челове’ческой неумелости, но и пугающе подходило к моему собственному состоянию.
Работа начиналась в шесть утра и заканчивалась в шесть вечера с перерывами на завтрак и обед. Еда была невкусная и малосъедобная, за исключением субботних вечеров, когда устраивался праздничный ужин и дом был открыт для посетителей.
Думаю, никто, из работавших в Prieure в 1923 году, не сможет забыть то ощущение надежды и удивления, с которым мы ждали каждую новую работу, которую давал нам Гурджиев. Темпы были сногсшибательными. Несколько недель все работы проводились на фоне различных видов голодания. Затем начинались психологические испытания, которые проникали столь глубоко, что человеку казалось, что с него спали все покровы и он остался духовно обнаженным.
С голоданием связано одно происшествие, показывающее, сколь деликатным мог быть Гурджиев, если хотел. В Prieure был известный русский юрист, Рахмилевич, в прошлом глава Санкт-Петербургской адвокатуры. Он присоединился к Гурджиеву в 1911 году и пытался устанавливать порядки по праву старшего ученика. Однажды Гурджиев, входя в гостиную, услышал слова Рахмилевича, обращенные к другому русскому: «Я лучше знаю, что имеет в виду Георгий Иванович, потому что я на пять лет дольше, чем ты, нахожусь рядом с ним». Гурджиев спокойно заметил: «Рахмил, если тебе не стыдно за себя, постыдись хотя бы за меня. Ты делаешь из меня дрянного учителя, если после стольких лет знаешь так мало». Вскоре после этого было объявлено о периоде интенсивного голодания. Рахмилевич тайно спрятал немного еды в дупле. Несколько человек это заметили, но никто не сказал ни слова. В начале голодания каждому Гурджиев давал индивидуальную программу. Оставив Рахмилевича напоследок, он сказал: «Рахмилевичу голодание ни к чему, он и так слишком много знает». Я очень сочувствовал ему, так как понимал, что ради Гурджиева Рахмилевич пожертвовал всем, но не смог пожертвовать только собой.
После голодания Гурджиев перешел к ментальным упражнениям совместно с работой руками в саду.
Гурджиевская доктрина «сознательного труда и намеренного страдания» зачастую понималась до смешного буквально, что часто случается с европейцами и американцами, сталкивающимися с азиатской тонкостью. Когда я приехал в Prieure, ментальные упражнения проводились в виде заучивания длинных списков тибетских слов. Дамы, в основном англичанки среднего возраста, должны были выкорчевывать корни больших деревьев, срубленных мужчинами. Задача была невыполнимой, если только не использовать лебедки или не выкапывать глубоких ямок. Дамы усаживались в небольшие ямки и начинали копать землю вокруг себя небольшими лопатами или, за недостачей инструментов, столовыми ложками, выбрасывали назад землю, как куры, копошащиеся в мусорной куче. За браслеты или наручные часы были заткнуты бумажки, в которые каждые несколько минут дамы тайком заглядывали. Похожие на тревожных наседок, дамы бормотали слова. Глядя на них, я удивлялся, чего они ищут в Фонтенбло. В их искренности я не сомневался, но куда они дели свой здравый смысл?
Гурджиев безжалостно избавлялся от тех, кого не хотел видеть. Он вызывал и одновременно считал отвратительным то тупое обожание, которое превращало каждый его жест и слово в символы вечной истины. Одна дама практически сходила по нему с ума, и он жестоко подшутил над ней, показывая всем нам, что нельзя доверять никому, особенно ему самому.
Каждую субботу, после ланча, все работы прекращались и начинались приготовления к еженедельному празднику и приему гостей. После обеда на террасе замка подавали традиционный английский чай. Однажды к нему было мороженое, приготовленное из свежих сливок от наших собственных коров. Гурджиев прохаживался между нами своей лишенной всякого усилия походкой, отличающей его от других людей. Подойдя к столику этой дамы, он сказал: «Вы не знаете, как получить от мороженого наибольшее удовольствие. Надо полить его горчицей». Она послушно поднялась и пошла в дом за баночкой с горчицей. Когда она вернулась, Гурджиев, указывая на нее, сказал громовым голосом: «Вы видите перед собой круглого идиота. Все время она идиот. Зачем Вы здесь?»
Бедняжка покраснела и разрыдалась. Она собрала вещи, уехала, и никто ее больше не видел.
В другой раз молодой американец по имени Метц, также страдавший безудержным преклонением перед Гурджиевым, получил задание поставить новую фару на машину Гурджиева. В этот вечер Гурджиев собирался в Париж. Выведя машину из гаража, он обнаружил, что фара не заменена, и крикнул Метцу, чтобы тот садился на бампер и держал лампу всю дорогу до Парижа. Метц безропотно сидел на крыле, пока Гурджиев не столкнул его, сопроводив своим любимым словом: «Идиот!»
Концертирующий пианист Финч, обладатель самых прекрасных рук, которые я когда-либо видел, заботящийся о них так, словно они были бесценным сокровищем, приехал в Prieure. Его послали ухаживать за курами. Дни шли за днями, а вместе с этим росла его тревога. Наконец, он сказал Гурджиеву, что куры стали нестись хуже, с тех пор как он за ними присматривает. Гурджиев возразил: «Конечно. Потому что Вы их не любите. Они хорошо несутся у тех, кто их любит. Научитесь любить их».
На следующий день, проходя мимо курятника, я увидел несчастного Финча, который в замешательстве рассматривал кур, пытаясь их любить, но не имея ни малейшего представления, как это сделать.
Каждый вечер, после ужина, начиналась новая жизнь. Никто не спешил. Некоторые гуляли в саду. Другие курили. Около девяти вечера мы по одиночке или парами и тройками направлялись к Дому Обучения. Уличная обувь оставлялась снаружи, на ноги одевались мягкие туфли или мокасины. Мы тихо рассаживались, каждый на свою подушку, образуя круг. Мужчины садились справа, женщины слева; но никогда вместе.
Некоторые поднимались на сцену и начинали выполнять ритмические упражнения. По прибытии каждый из нас мог выбрать себе учителя по движениям. Я выбрал Василия Ферапонтова, молодого русского, высокого, с длинным прилежным лицом. Он носил пенсне и походил на вечного студента Трофимова из «Вишневого сада». Он был замечательным инструктором, хотя и не лучшим исполнителем. Я очень ценил его дружбу, продолжавшуюся вплоть до его смерти десятью годами позже. Во время одного из первых наших разговоров он говорил мне, что, наверное, умрет молодым.
Упражнения были похожи на те, что я видел в Константинополе три года назад. Новые ученики, такие, как я, для начала выполняли набор так называемых шести обязательных упражнений. Я находил их восхитительными и очень старался побыстрее их освоить, чтобы присоединиться к работе всей группы.
В это время Гурджиев занимался подготовкой специального класса, состоящего в основном из одних русских, для общественных выступлений. Общая группа могла изучать любые новые упражнения, но не принимала участия в специальном обучении демонстрационного класса.
Гурджиевский метод создания новых упражнений отличался той живой спонтанностью, которая была одним из секретов его учительского мастерства. Пока новички упражнялись на сцене, несколько русских собирались вокруг рояля, за которым сидел Томас де Гартман с высоко поднятой, как у птицы, лысой головой. Гурджиев выстукивал ритм на крышке рояля, затем напевал мелодию или наигрывал ее одним пальцем, а затем удалялся. Гартман развивал тему, соответствующую ритму и мелодии. Если он ошибался, Гурджиев прикрикивал на него, а Гартман неистово огрызался.
Затем старшие выстраивались в линии, а мы стояли по бокам и смотрели или сидели на своих местах на полу. Гурджиев показывал позы и жесты сам, или, если они были чересчур сложны, включали различные перемещения линий или позиций, он обходил всех и ставил каждого ученика в нужную позу. Начинались яростные споры. Сцена становилась ареной споров, жестикуляций и криков, пока ученики пытались выучить последовательность движений. Внезапно Гурджиев выкрикивал властную команду, и все стихало. Короткое объяснение, и Гартман начинал играть тему, к тому времени уже разработанную в целое произведение. Иногда результат был потрясающим: как по волшебству возникал прекрасный ансамбль, никогда не существовавший ранее. В другой раз задание оказывалось слишком сложным, и ряды разбивались, чтобы вновь и вновь работать в последующие дни.
Кроме этих упражнений, много времени отдавалось ритмам, исполняемым ногами под музыку, импровизируемую Гартманом. Иногда Гурджиев применял свое знаменитое стоп-упражнение. В любой момент дня иночионмог крикнуть: «Стоп!», и все, услышавшие этот крик, должны были в тот же момент замереть. Сначала фиксировался глаз на предмете прямо перед собой, тело замирало в том самом положении, в котором оно находилось при даче команды, и мысли оставались теми же. Всякое произвольное движение прекращалось. Стоп мог длиться несколько секунд, пять, десять минут или больше. Поза могла быть неудобной, болезненной, даже опасной, но будучи прилежными и искренними, мы не делали ничего для ее облегчения. Мы ждали, пока Гурджиев крикнет «Давай!» или «Продолжай!», и возвращались к прерванным делам.
Ритмические упражнения часто были столь сложными и неестественными, что я отчаялся их освоить. Но постепенно происходили маленькие чудеса. После многих часов бесполезной и сводящей с ума борьбы тело неожиданно сдавалось, и получалось невозможное движение. Работа в Доме Обучения длилась до полуночи, а зачастую и дольше, поэтому мы редко спали больше трех-четырех часов до начала нового рабочего дня. Около полуночи Гурджиев провозглашал: «Кто хочет спать, может идти спать». Уходили один-два человека, но подавляющее большинство оставалось, зная, что наиболее интересные объяснения и демонстрации начинались после завершения обычной работы.
Иногда Гурджиев читал лекции. Они были значительными событиями, поскольку каждая была направлена на лучшее понимание всех тех необычных вещей, которые с нами происходили. Одну лекцию я запомнил дословно.
Как-то вечером майор Пиндер, офицер английской разведки, познакомившийся с Гурджиевым в Тифлисе в 1919 году, очень хорошо знавший русский и служивший Гурджиеву переводчиком, объявил о предстоящей лекции. Мы собрались в Доме Обучения в обычное время, но вместо упражнений уселись в кружок на подушки. Время шло: десять часов, одиннадцать, полночь. Наконец прибыл Гурджиев, явно только что приехавший из Парижа, в сопровождении мадам Островской, мадам Успенской и майора Пиндера. Он стоял и долго смотрел на нас, затем сказал по-английски: «Терпение – мать Воли. Если у вас нет матери, как вы можете родиться?» С эти словами он ушел. Эта лекция произвела на меня сильнейшее впечатление, поскольку я знал, что мне недостает терпения и воли.
Я могу привести только несколько происшествий из десятков, случавшихся каждый день и вызывавших ощущение сверхнапряжения, срывавшего все психологические защиты, с которыми люди жили в обычной жизни. Некоторые сходили с ума. Были даже самоубийства. Многие в отчаянии сдавались. Другие были столь потеряны в своих собственных мечтаниях, что едва замечали те необычные условия, в которых они жили.
Примерно через две недели после моего приезда я серьезно заболел, в основном из-за обострения моей дизентерии, которой я заразился в Смирне четыре года назад. Я буквально воспринял Гурджиевские слова о том, что надо игнорировать возражения моего тела, и заставлял себя работать еще больше, чем остальные. Стояла засуха, и каждый вечер мы дополнительно должны были поливать огород, от которого в большой степени зависело наше пропитание. Я заприметил ручей всего в сотне ярдов от огорода, уровень воды в нем позволял использовать его для орошения. Я поделился этим с несколькими учениками, которые были возмущены предложением как-то облегчить нашу работу. Вскоре в огород зашел Гурджиев, и с замиранием сердца я спросил, могу ли устроить оросительные каналы подобно тем, что мы использовали в Анатолии. Он согласился без разговоров. На следующий день я построил запруду и начал рыть канал, но он должен был проходить по возвышению, и я понял, что уйдут недели на то, чтобы закончить его, работая в то небольшое свободное время, которое у меня было после ланча. Однако я посоветовался с Гурджиевым, и на следующий день он пришел в огород и устроил целое представление, говоря о тупости тех, кто носит воду, когда так близко есть ручей. Все принялись за работу, и на следующий день оросительная система была, в действии. Потом я слышал, как Гурджиев рассказывал о ней как об особой системе, о которой он узнал в Персии, и она стала одним из достопримечательностей Prieure, доказательством непреходящей Гурджиевской мудрости.
День ото дня мне становилось все тяжелее и тяжелее вставать с кровати по утрам, мое тело высохло от тяжелой работы на солнцепеке. Я очень ослабел от постоянного поноса, но как-то еще держался.
Наконец настал день, когда я просто не смог встать. Меня тряс озноб, состояние было самое жалкое; чувствуя, что сдаюсь, я сказал себе: «Останусь сегодня в постели», как вдруг понял, что мое тело встает. Я оделся и, как обычно, отправился на работу, чувствуя в то же время, что меня ведет Высшая Воля, а не моя собственная.
Все утро мы работали. В тот день я не мог завтракать. Вместо этого я лег на землю, раздумывая, умираю ли я уже или еще нет. Гурджиев как раз решил проводить занятия на свежем воздухе после обеда в липовой аллее. Ученики стали собираться под липами, я присоединился к ним. Пришли Гурджиев и Гартман. Из Дома Обучения шестеро человек вынесли роял. Я был одним из них и споткнулся, и чуть не потянул за собой остальных. Я весь горел и был жалок.
Мы начали работать над новым сложнейшим упражнением, с которым не могли справиться даже опытные русские ученики. Структура упражнения была символически изображена на доске: голова, ноги, руки и туловище должны были совершать ряд независимых движений. Для нас это было просто издевательством.
Гурджиев разозлился и остановил нас, сказав, что мы должны заняться ритмами. Гартман заиграл один ритм за другим. Надо было работать ногами. На меня навалилась страшная слабость, каждое движение давалось наивысшим волевым усилием. Один из англичан остановился и сел. Затем другой, и еще один. Вскоре я перестал что-либо понимать, кроме ритма и собственной слабости. Я повторял: «Еще одно движение, и я остановлюсь». Гартман продолжал. Один за другим сели все английские ученики и большинство русских женщин. Осталось шестеро или семеро мужчин и Жанна де Зальцман.
Гурджиев стоял, внимательно наблюдая за нами. Время потеряло значение до и после. Не было настоящего и будущего, только агония, заставляющая двигаться мое тело. Постепенно я понял, что Гурджиев сосредоточил все внимание на мне. Это было немое требование и в то же время ободрение и обещание. Я не должен был сдаться – даже если это убьет меня.
Внезапно я наполнился потоком безграничной силы. Мое тело словно бы превратилось в свет. Я не ощущал его в обычном смысле. Исчезли усилия,
боль, слабость, даже вес. Я чувствовал огромную благодарность, обращенную к Гурджиеву и Томасу де Гартману, но они уже тихо ушли, увели с собой учеников и оставили меня одного. Меня охватило ранее неизвестное мне блаженство. Оно отличалось от экстаза сексуального единения, поскольку было свободно и оторвано от тела. Оно было похоже на веру, которая движет горами.
Все пошли в дом пить чай, но я отправился в огород, взял лопату и принялся копать. Копание является испытанием наших физических возможностей. Сильный мужчина может копать очень быстро, но недолго, или долго и медленно. Но никто не может заставить свое тело копать долго и быстро без специальной подготовки. Я хотел испытать силу, наполнившую меня, и принялся под палящими лучами полуденного солнца копать, и копал около часа со скоростью, которую раньше я выдерживал в течение двух минут. Я не чувствовал усталости или напряжения. Мое слабое, непокорное, страдающее тело стало сильным и послушным. Понос прекратился, ушли и те мучительные боли, которые несколько дней преследовали меня. Более того, мой ум был ясен, как это изредка бывало со мной раньше, но случалось не по моей воле. Мысленно я вернулся на Вшвную дорогу Пера и обнаружил, что могу осознавать пятое измерение. Выражение «мысленный взор» приняло новое значение, когда я «увидел» вечностные паттерны каждого предмета, на котором я останавливал взгляд. Я посмотрел на деревья, растения, вод)’, текущую в канале, даже на лопату и, под конец, на свое тело. Я увидел изменяющееся взаимодействие между «мной» и «моим паттерном». При изменении состояния сознания я и паттерн то приближались, то отдалялись друг от друга. Время и вечность были условиями нашего опыта, а гармоничное развитие человека, к которому вел нас Гурджиев, было секретом истинной свободы. Помню, я сказал вслух: «Теперь я понимаю, почему Бог от нас прячется». Но даже сейчас я не могу восстановить то прозрение, которое лежало за этими словами.
Во время нашей первой встречи в Куру Чешм Гурджиев сказал, что недостаточно знать, что другой мир существует, надо уметь входить в него по желанию. Сейчас я жил в Вечности и потерял связь со Временем. Я понял, что жизнь гораздо разнообразнее, чем может помыслить наш ум.
Ученики стали возвращаться в сад для вечерней поливки. Я перестал копать и отправился в лес. Я миновал каменоломню, лесопилку и пошел вверх по дороге, уходящей за Авон. Большие деревья, серые скалы, безоблачное небо и жужжание вечерних насекомых соответствовали моему внутреннему состоянию. Я не различал внешнего и внутреннего; все было там, где было, а не внутри, снаружи или где-нибудь еще. Я не хотел испытывать или доказывать, я хотел быть тем, кто я есть.
Огибая большую серую скалу, я столкнулся с Гурджиевым. Наша встреча казалась неизбежной, хотя я никогда не бывал в этой части леса раньше. Без всякого вступления он заговорил об энергиях, которые работают в человеке.
«Для работы над собой нужна энергия. Ни один человек не может совершать усилия без потребления этой энергии. Мы можем назвать ее Высшей Эмоциональной Энергией. Каждый человек естественным путем производит небольшое количество этой энергии ежедневно. При правильном использовании это позволяет человеку многого добиться на пути к самосовершенствованию. Но он может достичь только определенной точки. Настоящая полная трансформация Существа, необходимая человеку, решившему исполнить свое предназначение, требует большей концентрации Высшей Эмоциональной Энергии, чем та, которая достается ему естественным путем.
В мире есть люди, но их очень мало, которые связаны с Великим Хранилищем, или Накопителем энергии. Этот резервуар неисчерпаем. Те, кто связаны с ним, могут помочь другим. Предположим, что человеку нужно сто единиц энергии для трансформации, а у него есть только десять единиц, и больше он сам сделать не может. Он беспомощен. Но с помощью кого-то, кто связан с Великим Накопителем, он может занять еще девяносто. Тогда его работа становится эффективной».
Произнеся все это, он остановился и, глядя мне в глаза, сказал: «Те, у кого есть такая способность, принадлежат к высшей касте человечества. Придет день, когда ты сможешь стать одним из них, но тебе придется ждать много лет. До сегодняшнего дня ты знал обо всем этом теоретически, но сегодня ты испытал это на себе. Когда человек испытывает опыт Реальности, он отвечает за то, что делает в жизни. «
Он добавил, что через день-два собирается обсудить со мной свои планы на будущее и скажет мне, какое место смогу я в них занять, если захочу. Я не задавал вопросов. В эти мгновения я потерял всякое желание узнать больше и продолжал жить тем событием, которое так чудесно произошло со мной. Гурджиев ушел, не сказав больше ни слова, а я продолжал гулять по лесу.
Я вспомнил лекцию Успенского. Он говорил об узких рамках, ограничивающих наши функции и добавил: «Легко убедиться, что мы не контролируем свои эмоции. Люди воображают, что злятся или радуются по своему желанию, но никто не может по желанию удивиться». Вспомнив эти слова, я подумал: «Я удивлюсь». Мгновенно меня захлестнула волна изумления не только перед собственным состоянием, но и перед всем, что я видел или о чем думал. Каждое дерево было столь уникальным, что я чувствовал, что смогу гулять и гулять по лесу и никогда не устану удивляться. Затем я подумал о «страхе». Тут же я содрогнулся от ужаса. Страхи, которым не было названия, окружали меня со всех сторон. Я подумал о «радости», и мое сердце забилось от восторга. Затем ко мне пришло слово «любовь», я наполнился столь тонкими ощущениями нежности и сострадания, что я понял, что и представления не имел о глубине и силе любви. Через некоторое время ощущение стало слишком сильным, словно я все глубже погружался в тайны любви, и наконец, показалось, что еще чуть-чуть и я откажусь от этого существования. Я хотел освободиться от этой силы, чтобы понять, что я выбираю, и в тот же момент она покинула меня. Тут я вновь стал видеть своими глазами и думать по-своему и мне припомнилось двустишье Блэйка:
Grown old in love, from seven till seven times seven, I oft have wished for hell for change from heaven. Выросший в любви, с семи до семижды семи лет, Я часто желал, чтобы этот рай сменился адом.
Я понял, что для Блэйка здесь была не игра слов, но выражение реального переживания. Я знал, что в мире, куда я попал, не было одиночества, поскольку все, входящие в Источник Вечности, становились братьями. Я чувствовал себя спокойным, мысли были ясными, я осознавал свое тело, но был полностью «вне его». Я прекрасно помнил свои ощущения 21 марта 1918 года – меня так же не волновала возможность разрушения моего тела.
Вечером в Доме Обучения мы работали над тем же сложнейшим упражнением, которое сбило меня с толку днем. Теперь я понимал, как его следует выполнять. Один ритм должен исполняться только моим телом. Для другого нужно слушать музыку и отдаться ей. Третий я должен был удерживать в уме. Единство движений возникало от того чувства, которое они вызывали. Я смог разделить все три силы в себе, поэтому легко выполнил упражнение. Я не хотел, чтобы кто-нибудь заметил, что я могу сделать упражнение, что также меня удивило, поскольку я хорошо знал о своем глупом тщеславии и желании похвастаться своими успехами перед другими.
Вскоре Гурджиев остановил упражнение и велел принести большую черную доску. Он начал рисовать диаграмму, представляющую человеческое тело и его основные функции. К этому он добавил ручки и блоки различных видов и размеров. Затем он начал объяснение по-русски, и я обнаружил, что могу с легкостью следовать за его словами и даже замечал ошибки перевода Пиндера. Я понял, что Гурджиев показывал, как способность работать зависит от связи с источниками энергии внутри и вовне нас. Все, что он говорил, проясняло мой опыт. Объяснения’ Гурджиева доходили до меня прямо, как если бы шли изнутри меня, а не с помощью слов и слуха. Значимость его слов далеко превышала мою ситуацию: я увидел все человечество, жаждущее ту энергию, которая текла через меня. Гурджиев говорил о Великих Вечных Накопителях, с которыми связаны священные существа, приходящие на землю для помощи человечеству. Затем он перешел к другой диаграмме, показывающей, как Воля Бога в творении работает с энергиями различной плотности и тонкости. Я мог видеть, что такие источники действительно существуют, и осознал великую ошибку человечества, потерявшего связь с ними.
После лекции слушатели разошлись и отправились спать. Я вышел в сад. Стояла жаркая сверкающая ночь. Уснуть казалось невозможным. Вновь неожиданно передо мной возник Гурджиев. Он произнес по-английски: «Время спать». Я возразил по-турецки, что спать не могу. Он ответил, что могу и ничего не потеряю, уснув. Я вернулся в свою комнату, лег в постель и тотчас же заснул. На следующее утро от моего опыта не осталось ничего, кроме воспоминаний и уверенности, что однажды я не только попробую, но и овладею силой, связывающей меня с Великим Накопителем, наделяющим человека столь потрясающими способностями.
Лекция Гурджиева имела одно интересное следствие. На следующий день ко мне подошли Морис Николл и остальные, сказав, что не поняли, к чему вчера клонил Гурджиев, но как-то догадались, что я следовал за его словами. Я попытался объяснить и обнаружил, что не помню из лекции ни слова и не могу рассказать о том, что пережил за вчерашний день. Это был наиболее потрясающий и важный день моей жизни, но я не мог поделиться этим с другими. Я смог воспроизвести диаграмму, которая помогла мне тридцать лет спустя в «Драматической Вселенной» дать описание процессу творения, который, в противном случае, остался бы за пределами моего понимания.
Два или три дня спустя после этого потрясающего опыта, Гурджиев как-то утром пригласил меня поехать с ним в Мелун по делам. На обратном пути он поехал через лес, и мы выехали на расчищенный участок в сотне или более футов над замком Prieure. Он сказал, что здесь его любимый вид, мы сели, и он стал говорить о своем желании купить еще землю и построить обсерваторию. Он рассказывал, как много интереснейших фактов о движении планет проглядела современная астрономическая наука, поэтому он хочет продолжить исследования, начатые им в Центральной Азии тридцать лет назад. Я не имел понятия о его возрасте, полагая, что ему должно быть шестьдесят или семьдесят, хотя выглядел он гораздо моложе. Он говорил о себе то как о старике, то хвастался своей молодостью и жизненной силой. Невозможно было с уверенностью сказать, когда он говорил серьезно, а когда шутил.
Как бы там ни было, я совершенно серьезно воспринял его планы об обсерватории и научных исследованиях. Они запали мне в душу и я задумывался, не подшучивает ли надо мной Гурджиев.
Возвращаясь в Prieure, я был преисполнен гордости от того, что Гурджиев посвятил меня в свои тайные планы. Меня ждало письмо с новостью, которой я давно ожидал, – миссис Бьюмон приезжала через два дня. Гурджиев спрашивал меня о ней и заверил меня, что она будет желанным гостем, но почему-то она долго не могла решиться. Оказалось, что я так живо описал суровые условия жизни в Prieure, что она засомневалась, выдержит ли она их и не хотела стать причиной моего преждевременного возвращения.
В конце августа она наконец приехала. Гурджиев сам встретил ее и сказал, что она может остаться так долго, как пожелает. Однако, увидев меня, она очень встревожилась. Ее потрясло, что русский врач, делавший мне инъекции, не соблюдает элементарнейших правил гигиены, приходит прямо из коровника и грязными руками и нестерилизованным шприцем делает мне укол. Вся обстановка в Prieure ужаснула ее. Обнаружив на кухне мириады мух, она направилась прямо в деревню и, купив дюжину листков липкой бумаги, развесила ее повсюду.
Помнишь ли Ты себя СЕЙЧАС?
Английские посетители поглядывали на нее косо. Считалось, что мухи на кухне – испытание, которое нужно пройти. Она настроила против себя и русских явным отсутствием почитания Гурджиева. Он, со своей стороны был доволен, и специально зашел поблагодарить ее за достаточную чувствительность для борьбы с мухами.
Через несколько дней после моего потрясающего опыта дизентерия вернулась, и я стал еще слабее, чем раньше. По настоянию миссис Бьюмон я отправился на отдых в Париж. Через пару дней, почувствовав себя лучше и за неимением другого занятия, я решил попробовать метод Гурджиева для изучения русского языка. Однажды за обедом он упомянул о том, что учил языки путем запоминания двухсот слов в день, каждое утро проверяя, не забыл ли он слова, выученные ранее. В то время на Елисейский полях были скамейки от Круга до Звезды. Их оказалось двадцать штук, и я решил выучивать по десять слов на каждой и затем переходить к другой. Выбрав двести слов из «Русской грамматики» Бондара, я приступил к делу. В первый день я выучил весь список за два часа. Во второй – за шесть. На третий день, с разламывающейся от боли головой, я отказался от своей затеи, выучив всего пятьсот слов. Однако, к собственному удивлению и удовольствию, я обнаружил, что могу читать по-русски и понимать разговор.
Тем временем пришло письмо от Джона де Кэя, настоятельно зовущего меня в Лондон, где, по слухам, лорд Карсон покидал Министерство Иностранных Дел, и ожидалось значительное потепление отношений с турками. На следующее утро я вернулся в Prieure, гораздо лучше чувствуя себя физически, но с внутренним беспокойством. Я переживал реакцию после изумительного опыта, испытанного неделю назад. Гурджиев встретился со мной на следующий день. Я рассказал ему о надеждах Джона де Кэя и добавил, что если дело наследников султана Хамида выгорит, то у меня будет достаточно денег на строительство обсерватории. Пока же у меня не было ничего. Я должен был помогать матери, ведь отец умер без гроша в кармане, прожив ее деньги так же, как и свои. Были у меня и другие обязательства и все они требовали денег. Я бы хотел остаться в Prieure, где я увидел то, что значило для меня больше всего в жизни. Он сказал мне: «Вы приехали сюда попробовать. Вам дали нечто. Но если Вы решите работать, то поймете, что ничего не получили. Хотите приобрести что-нибудь свое – научитесь воровать. То, что даю я, не имеет цены: это бесценно. Следовательно, если Вам оно нужно, украдите его.
У Вас есть возможность научиться работать. По правде говоря, очень немногие из ныне живущих людей имеют такую возможность, так как у большинства из них есть непреодолимые препятствия. Препятствия есть у всех – это заложено в человеческой природе. Вы узнали, что можно напрямую подключиться к Великому Накопителю Энергии, источнику всех чудес. Сможете постоянно поддерживать с ним связь- преодолеете все барьеры. Но Вы не знаете, как это сделать и не готовы это узнать. Вся работа еще впереди, но Вам показали, что это возможно. Пройдет двадцать, тридцать, может быть сорок лет прежде чем Вы овладеете силой, одолженной Вам на один день. Но имеет лА время значение, если такое возможно? Еще в юности я знал о существовании этой силы и барьеров, препятствующих человеку обладать ею, и я искал, пока не нашел способ смести все препятствия. Это величайшая тайна человеческой природы. Множество людей хотят быть свободными и знать реальность, но они не знают о барьере, не дающем им достичь этой реальности. Они приходят ко мне за помощью, но не хотят или не могут платить за нее. И если я не в состоянии помочь им, то не по своей вине».
Он вновь заговорил о Бытии и Знании, об опасности потерять все, если я буду опираться только на Знание. Его слова звучали беспощадно: «При излишке знаний, внутренний барьер может стать непреодолимым».
Я спросил: «Если я останусь с Вами, сколько потребуется времени?».
Учитывая то, что я только что услышал, я ожидал, что нужно по крайней мере лет двадцать, но он ответил: «Посвятите все свои силы работе, и, возможно, через два года Вы сможете работать самостоятельно. Но пока Вам нужен я, поскольку Вы не можете создать для себя подходящие условия. Впоследствии я Вам уже не понадоблюсь. Но в течение этих двух лет Вы должны быть готовы ко всему».
Я напомнил ему, что денег у меня нет, а оставаться здесь без оплаты я не мог, тогда он возразил: «Мне нужны не Ваши деньги, а Ваша работа. Множество людей могут дать мне деньги , но очень мало тех, кто может работать. Я дам Вам деньги. Вскоре я еду в Америку, и если Вы выучите русский, то будете моим переводчиком. Вскоре Вы научитесь читать лекции так, как мне нужно. Сейчас Вы должны брать, потому что Вам нечего отдать. Потом Вы будете готовы снять с себя последнюю рубашку во имя работы – так, как я готов сейчас».
Гурджиев давал мне возможность принять великое решение, но я знал, что не смогу принять его предложение. Я сказал себе, что должен уйти и заработать денег и вернуться. Он не просил меня решать: высказав свое предложение, он, казалось, потерял ко мне всякий интерес. Я даже не смог найти его, чтобы попрощаться. Начинался сентябрь 1923 года. В последний раз я поднялся вверх по холму к станции Фонтенбло и сел на парижский поезд. Эта глава была закончена, и, покуда я не вернусь, писать было нечего. Я и представить себе не мог, что пройдет двадцать пять лет, прежде чем я вновь увижу Гурджиева. Только после смерти Гурджиева я понял, что паттерн его жизни требовал отсылать прочь всех наиболее близких подходящих ему людей. Он прогнал П. Д. Успенского, Александра де Зальцмана и даже самого преданного из всех – Томаса де Гартмана. Он порвал отношения с А. Р. Орагом, Морисом Николлем и многими другими. Никто так и не смог вернуться к нему, хотя некоторые пытались. Мне повезло больше. Но моей заслуги в этом не было, просто я был моложе остальных и через двадцать пять лет все еще мог предпринять еще одну попытку.
Глава 11
Противоположные влияния
Вернувшись в Лондон больным и измученным, я быстро поправился. Успенский при встрече принялся меня расспрашивать. Я хотел, но не смог рассказать ему о том, что я пережил. То, что произошло со мной, предназначалось тому Беннетту, каким я должен был когда-либо стать. Поэтому рассказывать мне было неловко, словно я хотел показаться кем-то, кем в действительности не являлся. Я пересказал, как мог, лекцию Гурджиева об энергиях и изменениях скорости. Успенский не проявил особого интереса.
Миссис Бьюмон очень огорчилась из-за того, что так и не смогла понять Гурджиева. Гурджиев ускользал от ее проницательного ума. Привыкнув составлять определенные и, как правило, очень точные заключения о людях, она как-то пришла к Успенскому и попросила: «Вы должны рассказать мне правду о Гурджиеве. Он необычный человек, я это знаю, но никак не пойму – очень хороший или очень плохой? Мне он нравится и я его ненавижу. Я бы не хотела подпасть под его влияние. Скажите откровенно, что думаете Вы?» Успенский ответил просто и без раздумья: «Уверяю Вас, Гурджиев – хороший человек. Но Беннетт совершенно правильно ушел: он еще не готов к такой работе».
В течение осени и зимы 1923 года я регулярно посещал собрания Успенского и работал с маленькими группами. Нас завораживали рассказы Успенского. Я упорно практиковал основные психологические методы самонаблюдения, самовоспоминания и борьбы с привычками. В группах мы искали связи между космическими идеями Гурджиева и современными научными открытиями. Эта работа занимала почти все мое свободное время. Днем я продолжал вести дела Лондонского представительства султана Абдула Хамида. Джон де Кэй занимался одновременно множеством дел, и всегда находились люди, которых нужно было принять. Группа лондонских финансистов заинтересовалась проектом. Я запрашивал информацию из Турции, чтобы быть готовым ответить на их вопросы.
Двадцать второго января 1924 года было сформировано первое лейбористское правительство, премьером и министром иностранных дел которого стал Рамсей МакДональд. Хендерсон, секретарь лейбористской партии, считался всемогущим серым кардиналом. Филип Сноуден был назначен канцлером. Джон де Кэй решил вернуться в Англию, полагая, что эти его друзья, для которых он столько сделал во времена Первого Интернационала в Цюрихе и Амстердаме, помогут ему обеспечить разбирательство в третейском суде княжеских земельных притязаний на английских арабских территориях в Месопотамии и Палестине.
Он просчитался. Лейбористское правительство следовало гражданским интересам во всем, кроме основных разногласий. Министерство иностранных дел долгое время находилось во враждебных отношениях с Турецкой правящей фамилией, и МакДональду посоветовали отклонить просьбу об арбитраже. Джон де Кэй не сдался и изложил свои требования Артуру Хендерсону, который по природе своей всегда с готовностью выслушивал жалобы обиженных. Турецкая правящая фамилия была недавно выслана из Турции национальным правительством, которое провозгласило Республику. Многие оказались без средств к существованию, практически без гроша в кармане, в разных европейских столицах. Таким образом, Джон де Кэй оказался защитником побежденных. Он был настолько убежден в правомочности княжеских притязаний, что просил только о назначении арбитража в любом из английских судов. В середине апреля 1924 года дело вроде бы сдвинулось, но тут законники иностранного отдела обратили внимание на тот факт, что им приходится иметь дело не с наследниками Абдула Хамида, а с американской компанией. Об этом стало известно в Государственном Департаменте в Вашингтоне, а заодно и о пребывании Джона де Кэя в Англии. Старая неприязнь к Джону де Кэю, связанная с его деятельностью в Мексике, вспыхнула вновь. По навету мошенника, в Лондоне было сделано новое заявление о выдаче де Кея в связи с продажей мексиканских правительственных облигаций. Он был арестован и препровожден в Брикстонскую тюрьму. Я поспешил навестить его. Миссис Бьюмон, ярая противница его приезда в Англию, уже сожалела, что я оказался втянут в эти сомнительные дела. Однако она не унывала и работала, не покладая рук. В основном благодаря ее усилиям, Джона де Кея сразу же выпустили под залог, и началась изнурительная борьба против его выдачи Соединенным Штатам. Сэр Джон Кембелл, главный судья на Боу-стрит, относился к нам не без сочувствия, но де Кэй настроил его против себя, обрушившись на так называемую лояльность американского посольства.
Естественно, дело основывалось на документальных свидетельствах. Я окунулся в него с головой, словно моя собственная свобода была под угрозой. До сих пор я не подозревал об обаянии юриспруденции. Это был новый мир, и я должен был в нем разобраться. Часами я просиживал с законоведами, бившимися над нелегкой задачей -доказать, что данный случай не относится к prima facie. Думаю, мы все были уверены, включая главного судью, что де Кэй был обвинен ложно: несомненно, это оптимизм заставил его взять на себя обязательства, которые невозможно было выполнить. Де Кэй утверждал, что он – жертва политических гонений, и рассчитывал на помощь МакДональда и друзей из Второго Интернационала.
Мне приходилось донимать членов правительства просьбами вмешаться и отклонить запрос о выдаче без слушания дела. Тщетно я объяснял де Кэю, что это противоречит английским законам. Его положение было двусмысленным, поскольку британское и американское правитесльства не признавали президента Хуэрту, в то время, когда де Кэй был его агентом. Дело тянулось четыре месяца; я усвоил более чем горький урок о малодушии хороших людей в затруднительной ситуации. Сер Джон Кэмбелл был справедливыми и терпеливыми явно озабочен тем, что от американской настойчивости в этом деле попахивает политикой. Но в конце концов он отдал приказ о выдаче. Джон де Кэй был вновь арестован и вывезен в США. Больше я его не видел. Озлобленный, он запил. Не доверяя американскому правосудию, он не сомневался, что его засадят до конца дней. На самом же деле, заполучив его обратно в штаты, Департамент правосудия счел дело недоказанным, и де Кэя вскоре освободили.
Мое общение с де Кэем продлилось чуть более двух лет, и я многому у него научился, в особенности широкому взгляду на любую проблему. Он обладал редкой способностью просто излагать свои мысли. Именно он наглядно объяснил мне, что в этой жизни следует рассчитывать только на себя. Мне было только двадцать семь, когда его депортировали, и в то время я слишком сильно на него полагался. Во многом он являл собой полную противоположность мне. Его сердце, отнюдь не ледяное, вспыхивало при малейшем намеке на несправедливость, но он страдал практически безнадежной болезнью – верил, что он не такой, как все. Его слабости были особенно очевидны в свете того, чему учил Успенский. Миссис Бьюмон и я очень хотели, чтобы эти двое встретились. Однажды нам удалось свести их, но из этого ничего не получилось. Джон де Кзй, горевший желанием помогать другим, не смог понять, насколько ему самому нужна помощь. Вдвоем с миссис Бьюмон мы гадали, что бы сделал с ним Гурджиев. Но теперь Гурджиев был далеко, в Америке, с русскими учениками. Однажды вечером Успенский пригласил меня на собрание в дом Ральфа Филлипсона на Портландской площади. Нас бьио не более десяти человек, и планировалось явно не обычное занятие. Успенский сразу сказал: «Я попросил вас прийти, чтобы сообщить, что решил порвать все отношения с мистером Гурджиевым. Вы можете уйти и работать с ним или остаться со мной. В последнем случае вы должны пообещать, что не будете тем или иным способом общаться с Гурджиевым или его учениками».
Хотя я и знал о разногласиях между Успенским и Великим Жрецом, столь прямое объявление ошеломило меня. Большинство из нас трепетало перед Успенским, поэтому только Филлипсон, грубоватый северянин и очень богатый человек, от которого Успенский зависел, осмелился задать вопрос, вертевшийся у всех на языке. Успенский был явно готов к этому и заговорил медленно и осторожно: «Мистер Гурджиев – человек экстраординарный, и его возможности намного превышают таковые любого из нас. Но и он может ошибаться. По-моему, он сейчас переживает кризис, последствия которого невозможно предвидеть. Большинство людей обладают многочисленными «Я». Если все эти Я перессорятся, большой беды не будет, потому что они слабы. Но у мистера Гурджиева только два «Я» – очень хорошее и очень плохое. Я верю, что хорошее когда-нибудь одержит победу. Но сейчас, в разгар битвы, находиться рядом с ним крайне опасно. Мы ничем не можем помочь ему, равно как и он, в его теперешнем состоянии, ничем не может помочь нам. Поэтому я решил порвать все связи. Но это не значит, что я против него или что я считаю его поступки плохими».
Кто-то спросил: «Если он пойдет по неверному пути, что может случиться?»
Успенский ответил: «Он может сойти с ума или навлечет на себя несчастье, в котором пострадают все окружающие».
Помнится, я ничего не сказал. Я был много моложе других собравшихся, и во всем этом было нечто, чего я не мог понять. Я, безусловно, хотел быть с Гурджиевым. Он был особенным и внушал мне доселе неведомое чувство любви. Ему я обязан удивительным опытом. Но при этом я знал: к Гурджиеву я не поеду. Я был обречен продолжать жить так, как жил.
Годы спустя меня спрашивали, почему я не последовал за Гурджиевым. Не думаю, что причиной тому предостережение Успенского. Было похоже, будто Гурджиев сам уходил от меня, запретив следовать за собой.
Позднее я узнал, что незадолго до этого Гурджиев попал в ужасную аварию: сидя за рулем, он на огромной скорости врезался в дерево по дороге из Парижа в Фонтенбло. Этот удар обрушился и на всех живших в то время рядом с ним. Особенно тягостными были дни, когда Гурджиев с тяжелой травмой головы, без сознания, был между жизнью и смертью. Он сам подробно описывает это происшествие и его причины в потрясающей автобиографической главе его неопубликованной книги «Жизнь реальна только тогда, когда Я Есть.” В этой книге показано воздействие разрушительных сил, препятствующих изменению хода человеческой истории, на которое направлена Гурджиевская система обучения.
В течение 1924 года я много работал с Успенским, помогал ему переводить его книги с русского на английский. Хотя я часто отлучался из Англии, мне удавалось активно работать в группах. Я считал эту работу крайне важной и был готов пожертвовать всем ради достижения цели – сознательной индивидуальности, – которую Успенский поставил перед нами. Двухлетнее упорное самонаблюдение давало мне основание полагать, что я знал самого себя и свои слабости. Теперь, почти треть века спустя, я понимаю, что тогда даже не приблизился к желаемому результату.
Внешние обстоятельства моей жизни не были блестящими. Джон де Кэй вышел из игры. Его Американская корпорация не смогла выполнить обязательства перед наследниками, и их отношения прервались. Нужно было либо вообще отказаться от проекта, либо начинать сначала. Я чувствовал, что должен предпринять еще одну попытку. Впервые в жизни я был действительно одинок: ни совета, ни поддержки ждать было неоткуда.
Старый приятель миссис Бьюмон свел меня с нужными людьми -так, чуть ли не спонтанно, сложилась группа разбогатевших во время войны дельцов, ищущих применения своим деньгам в новых странах. Мне доверили вновьсвязаться с наследниками. Я побывал в Париже, Ницце, Риме и Будапеште. Все мои расходы, включая встречи с наследниками и выдачу им небольших авансов, были оплачены. Последующие полгода, успешные внешне, не были плодотворны для внутренней жизни. Я обошел все кабаре и ночные клубы в полудюжине городов. Слишком много пил, общался с женщинами того странного полусвета, который раньше был мне неизвестен. Наконец все контракты были подписаны, и я с триумфом вернулся в Англию. Свой образ жизни я объявил необходимой составной частью моего опыта, но до сих пор не знаю, так ли это. Мы не в состоянии понять то, чего сами не пережили, но это вовсе не означает, что так уж необходимо понимать людей, живущих немедленным удовлетворением любых своих желаний. Я не вижу смысла в публичном покаянии, но признаюсь, что “с июля 1924 по февраль 1925 мой образ жизни был далек от высоких идеалов.
Заключение контрактов пришлось на благоприятный момент. Ратификация Лозанского договора позволила вести переговоры со странами-победительницами. В Будапеште один из наследников познакомил меня с мэтром Симосом, бывшим министром юстиции Греции, который заверил меня, что правительство Греции признает частную собственность султана. По его мнению, чтобы получить землю, нужно было вложить британские деньги в развитие сельского хозяйства, добычу минералов и недвижимость в городах Македонии.
Это звучало заманчиво. Моя связь с Грецией упрочилась встречей в Ницце со старьгм знакомым, мэтром Аристиди Георгиадесом, греческим юристом, в прошлом членом мабейна Абдулы Хамида, известным в качестве непревзойденного посредника. Он вызвался добиться от греческого правительства официального признания прав наследников, основываясь на предложении мэтра Симона. Греческий посол в Лондоне подтвердил его статус в правительстве, и мои патроны решили предпринять попытку договориться о земле в Греции.
Меня попросили вести переговоры. Я оказался перед выбором. Мои предыдущие отлучки из Лондона не превышали нескольких недель, и я мог работать с группой Успенского. Теперь же предстояла поездка на месяцы, а может, и годы. Я отправился к Успенскому за советом. Уклонившись от прямого ответа, он рассказал мне такую историю. «Есть такая русская сказка. Один богатырь отправился в поход. Спустя какое-то время дорога, по которой он ехал, разделилась на три. Раздумывая, куда направиться, он вдруг увидел старика, который рассказал ему, что на правой дороге он потеряет коня, на левой – себя, а на той, что прямо перед ним, – и себя, и коня. Рассудив, что богатырь без коня беспомощен, а конь без богатыря бесполезен, он поехал прямо. После отчаянных приключений, когда сбылось предсказание старика, он наконец достиг цели». Успенский добавил: «Вы сейчас в таком же положении. Но, послушайте, если бы богатырь выбрал любую из двух оставшихся дорог, результат был бы тем же. Быть настойчивым и никогда не сдаваться – вот единственное условие».
Этот разговор врезался мне в память. Многое было за то, чтобы остаться в Англии. Мадам Успенская только что приехала в Лондон. Я учил ее английскому и учился у нее русскому. Успенский позволил мне больше участвовать в работе. Вместе с доктором Морисом Николлом я отвечал на вопросы на собраниях в отсутствии Успенского. Я был крайне заинтересован и видел возможность собственного вклада в обучение. Но, оставаясь в Англии, я лишался средств к существованию.
Я сказал Успенскому: «Уверен, эта работа может привести к достижению осознания и бессмертия, но, сомневаюсь, смогу ли я это сделать. Чем больше я думаю о себе, тем кажусь себе менее способным достичь чего-либо. В самом деле, за последний год я скорее отступил, чем продвинулся вперед».
Мы сидели в его маленькой гостиной на Гвендвр-роад, в западном Кенсингтоне. Он стоял спиной к огню, как обычно, вглядываясь в меня через мощное пенсне. Глубоко вздохнув, ответил: «Вы уверены, что эта работа даст Вам осознание и бессмертие. Я – нет. Я ни в чем не уверен. Но знаю, что у нас ничего нет и нам нечего терять. Для меня это вопрос не надежды, а уверенности в том, что другого пути нет. Я многое испробовал и многое повидал, чтобы во что-то верить. Ноя не сдамся. Принципиально, да, я верю, что можно найти то, что мы ищем, – но я не уверен, движемся ли мы по верному пути. Но ждать сложа руки бессмысленно. Мы знаем, что у нас есть нечто, пришедшее из Великого Источника. Возможно, из него придет и что-нибудь еще».
Я был глубоко тронут искренним признанием Успенского. Оно придало мне гораздо больше сил, чем любое твердое уверение. Вернувшись к миссис Бьюмон, я все ей рассказал. Она считала, что не вправе ни советовать мне, ни вообще высказывать какое-либо мнение. Мне решать. Если я отправлюсь в Грецию, сказала она, она последует за мной, пока мое положение не определится.
С ее стороны это было героическое предложение. Я только что развелся с Эвелин. Процедура была болезненной для нас обоих, поскольку мой тесть разыскал в моей комнате ее письма ко мне в тот последний раз, когда я навещал жену и ребенка. Письма зачитывались в суде и широко цитировались в газетах. Со своей стороны, я не сомневался, что хочу жениться на ней, что и собирался сделать при первой же возможности. Друзья всячески предостерегали ее от этого шага, говоря, что брак с мужчиной 22 годами младше, не может продлиться долго. Как ни странно, моя мать, всего шестью годами старше миссис Бьюмон, стала ее близким другом и полностью поддерживала наш брак.
Все эти «за «и «против» не волновали меня. Я знал, что хочу разделить свою жизнь с этой женщиной. Я прекрасно понимал, что она умрет раньше меня и я останусь один. Но я был уверен, что никогда ее не покину. Так оно и случилось.
В начале апреля 1925 года мы отправились в Афины, твердо рассчитывая пожениться в Британском консульстве сразу же по прибытии.
Глава 12
Греция: конец цикла
До Греции мы добирались с приключениями. Мы попали в забастовку железнодорожников, и несколько дней наш поезд простоял в Лариссе, где гора Олимп возвышается над Тессальской равниной вдоль Темпской долины к Оссе и Пелиону. Весна в Тессалии подобна мечте поэта, поэтому два дня мы бродили по устланным цветами предгорьям Олимпа, гадая, не продлится ли наша задержка до трех дней, чтобы я мог взобраться на Олимп и взглянуть на Термофилы. Я начинал жить в прошлом, приходя в восхищение от имен и названий, которые сегодня были просто словами.
Вскоре стало ясно, что забастовка может затянуться на несколько недель, и я принял предложение одного греческого водителя довести нас до Афин на машине. У него был старенький фиат, выглядевший, однако, достаточно прочным, поэтому мы укрепили наш багаж на крыше и отправились в путь.
Карты у нас не было, и мой школьный греческий оказался бесполезным для бесед, поэтому мы понятия не имели, по каким местам проезжаем, если только нашему водителю не приходило в голову объявить нам название городов, через которые проходил наш путь. Каждая древняя местность или город оказывались неожиданным открытием. На второе утро мы достигли Ламии, родины Ахиллеса. Наш водитель указал на большую гору, по крайней мере на восемьдесят футов возвышающуюся над деревней, и сказал: «Это Ламийский акрополь». Когда мы обогнули его, на фронтоне показалась надпись десятифутовыми буквами: «Форд!» Время не пощадило и Мирмидонов.
На следующий день мы миновали Херонского Льва, одиноко стоящего в зарослях кипарисов. К вечеру мы прибыли в Элеузис, проехав Тибс над Китэроном. Пока мы огибали бухту Саламис над холмами, за которыми к востоку скрывались Афины, поднялась полная луна. Я обратился к миссис Бьюмон: «Как ты думаешь, сколько взойдет лун, прежде чем мы покинем Грецию?» В то время я полагал, четыре или пять. Но не менее пятидесяти лун сменило друг друга, прежде чем закончились наши греческие приключения.
Мы с миссис Бьюмон поженились после приезда. Я не любил заходить в посольство из-за шумихи, поднятой вокруг моего развода. Позднее выяснилось, что нас ждали и были расположены весьма дружелюбно, а нашу отчужденность приняли за враждебность по отношению к английскому правительству. Моя задача была сопряжена с достаточными трудностями и без необходимости завоевывать симпатии британской колонии в Греции.
Вскоре стала очевидна сложность моего положения. Единственным связующим звеном между мной и греческим правительством был Аристиди-бей с замашками истинного мабейнджи. Он был маленького роста, с маленькими проницательными глазками и маленькой «игрушечной» серой бородкой. Он не знал ни английского, ни французского, а греческому предпочитал турецкий. Человек без всяких принципов, он сохранил свое место при трех правителях и не потерял его, когда династия была свергнута. Повсюду у него были связи, и, насколько я знал, все доверяли ему как человеку, никогда не нарушавшему свое слово.
Аристиди воспринимал переговоры как чудовищное переплетение интриг. Он использовал желание греческого правительства угодить Турции, взаимное недоверие различных правительственных структур, играл на амбициях министров и не брезговал взятками. Я был не более, чем пешкой в его игре. Когда ему было выгодно, он представлял меня министрам и высоким чиновникам, указывая, что говорить и что нет. Он отвергал план, привезенный мной из Англии, о вложении британского капитала в развитие страны, но ни в коем случае он не хотел играть в открытую. Он полагал, возможно справедливо, что мы только вызовем алчность политиков и нарвемся на неприятности, если дадим понять, что британские капиталисты готовы вкладывать большие суммы денег в Грецию. Поэтому план держался в строжайшем секрете и был открыт лишь тем, кому Аристиди полностью доверял.
Он настаивал, что прежде всего мы должны добиться формального признания княжеских привилегий, а затем воспользоваться нашими предложениями как оружием за княжескую собственность. Я сообщил о его совете в Лондон, и мои принципалы полностью с ним согласились и решили, что он должен участвовать в качестве нашего адвоката в переговорах вместе со мной.
Годы с 1925 по 1927 были периодом крайней политической нестабильности в Греции. Произошло две революции, один за другим сменились диктаторы: генералы Пангалос и Кондилис. Армия постоянно меняла присягу. Велась мощная коммунистическая пропаганда, особенно среди четверти миллионов беженцев из малой Азии, живших в Греции в нищенских условиях. Переговоры, которые при стабильном правительстве заняли бы несколько месяцев, растянулись на годы.
Вдобавок Джон де Кэй, добившись оправдания в Америке, заявил свои притязания по старым контрактам . Он нашел сравнительно богатого американца, привлеченного идеей создания большого предприятия, и приехал в Афины представителем Abdul Hamid Estates Incorporated, хотя контракт был аннулирован из-за невозможности провести выплаты обещанные наследникам. Джон де Кэй проникся ко мне враждебностью, за то, что я присвоил его права. Уверенный в могуществе прессы, он подготовил для печати заявление, в котором Греции сулились огромные выгоды от инвестиций американского капитала. В этом таилась та грозная опасность, которую хотел избежать Аристиди, -давление на нас из-за Атлантического океана. Моя жена была глубоко огорчена неблагодарностью де Кэя. Глядя на ситуацию его глазами, я понимал его убежденность в собственной правоте и уверенность в моем предательстве. Я начинал догадываться, что почти всегда люди оценивают ситуацию только со своей точки зрения, и не хотел впасть в такое же заблуждение. Понимая, насколько глупо выяснять, кто прав, кто виноват, я все же оказался в ситуации неблагоприятной для всех, поэтому поддерживал политику осторожности и секретности Аристиди. Будучи уверенным в бессмысленности насилия любого рода, я все еще не понимал необходимости отказаться от малейшего проявления насилия в самом себе. Я ненавидел его, но не осознавал, что нужно быть готовым пожертвовать стремлением быть впереди других, если хотеть жить со всеми в мире.
Месяцы шли. В любой другой стране ожидание было бы невыносимым для моей нетерпеливой натуры, но Греция представляла неиссякаемый источник новых впечатлений. Жена моя по профессии была художником. Она училась с Clausenaar в Брюсселе и выиграла Стипендию Slade в пятнадцать лет, работала с Генри Тонксом и другими великими учителями Slade восьмидесятых и девяностых. Она писала в манере импрессионизма, с редким мастерством передавая яркие солнечные цвета. Последний раз она держала в руках кисти в 1911 году, будучи в Мексике. С большим трудом я уговорил ее вновь приняться за рисование. Начав, она не могла оторваться. Свет и яркие краски Греции совершенно подходили ее стилю. Ее моделями стали две сестры-гречанки, четырнадцати и шестнадцати лет, чистейшей классической красоты. За время нашего пребывания в Греции она написала около сотни картин, некоторые из которых были посланы на выставку одного художника в Галерею Брук-стрит. Они получили самые похвальные отзывы.
Сам я занимался древнегреческим, работал помощником в Американской Школе археологии. Для собственного удовольствия я предпринял детальнейшее изучение Пантеона в надежде уяснить геометрию удивительных кривых, которыми строители усилили внушительность впечатления от здания.
За четыре года нашего пребывания в Греции мы много путешествовали. Одна из поездок случилась вскоре после нашего прибытия, кажется, в мае, когда я получил записку от приятеля, в которой говорилось, что на острове Санторини, в древности Тира, происходит извержение вулкана, и через несколько часов отходит судно, берущее на борт всех, кто хочет его увидеть. Нас набралось двенадцать человек, среди которых были знакомые из французского посольства и несколько греков. Мы подъехали к Санторини через 24 часа после первого извержения и нашим глазам предстало редчайшее зрелище возникновения нового острова из морских вод. В 196 году до Рождества Христова на острове Тира произошла ужасная катастрофа, когда центральная часть острова погрузилась под воду; оставив только узкую полоску островков. В 1860 году в результате подводного извержения некоторая часть острова поднялась на поверхность. С тех пор в течение шестидесяти пяти лет вулкан безмолвствовал, а теперь вновь взорвался.
Перед нами в центре залива из нового острова шириной около пятнадцати миль извергался столб дыма и пара. Морская вода устремилась в кратер. Образующийся таким образом пар под большим давлением взрывался, выбрасывая в воздух огромные куски магмы, некоторые величиной с дом. Едва ли можно себе представить более пугающее явление природы. Пока мы стояли на якоре в крошечной гавани Санторини под отвесным утесом высотой тысячу футов, извержение прекратилось, и на двух лодках мы поплыли к новому острову.
Море становилось все горячее и горячее, в сотне ярдов перед нами оно кипело. Вареная рыба плавала между обломками пемзы и кусками желтой серы, являя потрясающую картину смерти среди жизни. Я и еще один из наших спутников сбросили одежду и поплыли в горячей воде. Лодочник предложил нам высадиться на острове и сделать фотографии. Остров был несколько сотен ярдов в ширину и около полумили в длину, земля под ногами оставалась горячей.
Сделав снимки, мы сели в лодки и отправились обратно. Только подплыв к берегу, мы осознали, какому глупому риску подверглись, так как остров взорвался, и там, где мы стояли всего двадцать минут назад, бурлил белый поток кипящей лавы. Вновь начались взрывы, и в течение последующих нескольких недель никто не осмеливался приблизиться к острову.
Мы должны были возвращаться вечером следующего дня, поэтому наутро решили взять мулов и проехаться по главному острову, чтобы осмотреть некоторые скалы вулканического происхождения, описанные в путеводителе как нечто фантастическое. На острове не было ни отеля, ни ресторана, да и на нашем судне не набралось бы достаточно еды для нескольких сотен пассажиров. Поэтому до начала нашей экспедиции я предусмотрительно договорился с владельцем единственного здесь кафе об обеде для нашей группы. Все куры в городке были зарезаны, и мне пообещали приготовить жареных цыплят для двенадцати человек. Чтобы скрепить сделку, я заплатил вперед, и мы отправились в путь. Миля за милей мы проезжали по безлюдным местам, где росли лишь опунции и алоэ. Восточное побережье Санторини больше похоже на ночной кошмар, чем на чудесное видение. Мягкие вулканические скалы раскололись на куски демонических очертаний, а морской берег покрыт серной слизью. Несмотря на жару, никто из нас не осмелился выкупаться в зловонной воде, и когда мы вернулись в деревню, солнце стояло в зените, а температура достигала 119 градусов по Фаренгейту в тени.
Полные надежды, мы вошли в кафе, где нас в замешательстве встретил хозяин, явно о нас забывший. Однако он с уверенностью заявил, что все остальные путешественники уже пообедали, а наш обед будет готов через минуту. Мы вошли в столовую, где нас ожидали двенадцать стаканов теплой воды с утонувшими там насекомыми, двенадцать кусочков хлеба и двенадцать тарелок с различно изогнутыми, но одинаково отвратительного вида цыплячьими шейками.
Нам довелось испытать еще много таких приключений, и мы научились любить греков, особенно крестьян, гостеприимных, честных, полных жизни и юмора.
Прошли осень и зима 1926 года, спор с Джоном де Кэем закончился возвращением его агента в Америку. Весной 1926 года я начал уже по-настоящему впадать в отчаяние, как вдруг судьба послала мне неожиданную встречу с Николасом Николопулюсом, бывшим агентом секретной службы, работавшим во время войны на Комптона Маккензи, который в одной из своих книг о войне описывает его под псевдонимом Дэви Джонс. В Дарданнелской кампании он совершал невероятные подвиги. Позднее, работая на меня в Константинополе, он познакомился с моей женой, тогда еще миссис Бьюмон; между ними завязалась необычная дружба. Оба с веселым пренебрежением относились к опасности и испытывали радость от жизни -качества, редкие в нашем веке. Нико был ей всецело предан и оказался вне себя от радости, узнав, что мы поженились.
Для грека Нико был слишком высок, статен, с величественными усами и сверкающими темными глазами. Он хорошо владел английским и мог часами рассказывать бесконечные истории, большинство из которых были правдивыми, о собственном героизме и роли, сыгранной им в победе союзников. Он являлся яростным приверженцем Венизелоса. Несмотря на постоянное бравирование, он вызывал доверие и симпатию, но, родившись не в свое время, после войны он почти не находил выхода своему стремлению к приключениям.
К нам в дом в Афинах Нико заявился, окутанный обычным покровом таинственности, и, оттягивая развязку до последнего момента, наконец предъявил нам добрых полдюжины документов о владении землями, входящими в цивильный лист Оттоманской Империи, должным образом сертифицированные земельной конторой в Кавалле. Он предложил себя в качестве моего агента и обязался достать все документы, если я снабжу его перечнем его полномочий. Я не намеревался предпринимать подобных шагов до получения «принципиального» признания наших прав, над чем сейчас работал Аристиди. Вознаграждение за работу Нико запросил самое скромное, заметив, что решил осесть на постоянном месте и надеется стать управляющим нашей недвижимости, если мы сочтем его услуги стоящими.
Я посоветовался с Аристиди и, хотя тот и был поражен тем, что я осмелился найти в ком-то, помимо него, преданного союзника, он все же не смог отрицать ценности документов, устанавливающих право собственности, особенно учитывая то, что оригиналы хранились не очень тщательно и могли были быть в любой момент утеряны или уничтожены. Он обратил внимание на тот факт, что, несмотря на конфискацию собственности Абдула Хамида Младо-Турками, ни одно из прав владений не было передано турецкому правительству или Греции как стране-победителю.
Исчезла всякая необходимость сидеть в Афинах и дожидаться следующего шага Аристиди. Я предпринял несколько путешествий в Македонию и Трэйс для исследований местных возможностей. Во всех поездках меня сопровождала жена, находившая все новые сюжеты для своих работ.
Однажды мы отправились к горе Голема-Река к юго-западу от Салоников. В переводе с болгарского название горы означает «огромная расселина». В этот район редко наведываются приезжие, да и греки тоже, так как в нем нет ничего, представляющего исторический или археологический интерес, и он находится вдали от главных дорог. Мы остановились в болгарской деревушке, похоже, совершенно незатронутой политическими и экономическими изменениями окружающего мира. Крестьяне говорили по-болгарски, некоторые из стариков знали турецкий, и никто и не подозревал, что Оттоманская Империя прекратила свое существование. Женщины пряли за станками вековой давности. Наиболее живо нам запомнилась встреча на обратном пути, когда мы, верхом на мулах, спускались с очень крутого склона. Вверх по тропинке поднималась болгарка, неся на спине связку хвороста примерно с нее весом, погоняя стадо коз и одновременно наматывая пряжу на ручное веретено. Весь ее вид внушал ощущение равновесия и уверенности, каждая жилка ее тела гармонично вписывалась в движение рук и ног, и, казалось, что стадо направляют только ее глаза. Лишь двадцать лет спустя, в глухой деревушке Базуто в Восточной Трансильвании я еще раз столкнулся с проявлениями естественных сил человеческого тела. Ни танцор, ни атлет, ни акробат не смогли бы достичь такого совершенного равновесия. Мы потеряли чувство физического совершенства как часть нелегкой платы за цивилизацию. Посадите эту женщину на любое современное механическое средство передвижения или даже на сиденье новомодного унитаза, и она лишится того чувства равновесия, которое позволяет ей идти с охапкой хвороста весом в сотню фунтов вверх по крутой тропинке, аккуратно наматывая шерстяную нитку на веретено, даже не глядя в ту сторону.
Несмотря на эти поездки, напряженное ожидание скверно действовало на меня. По натуре я был столь нетерпелив, что любая задержка казалась мне бесконечной. С годами я совершенно изменился, поэтому сейчас мне трудно восстановить то чувство нервного напряжения, с которым я дважды или трижды в неделю отправлялся на вечерние совещания с Аристиди в его богато обставленную виллу в Кифиссии. Но я помню, как однажды сорвался и как-то раз, возвращаясь вечером с женой в Афины, начал вопить, а когда жена попыталась меня успокоить, обернулся и ударил ее кулаком.
Мы оба были поражены: с тех, пор, как мы познакомились, мы даже ни разу не поссорились. Я понял, что сорвался, и согласился на предложение жены уехать из города недели на две. Приближалась Пасха 1926 года, годовщина нашего пребывания в Греции. На Пасху мы отправились в Мегаспелион, в Аркадии. Железная дорога из Платоноса в Калавриту в Коринфском заливе проходит через изумительные места с прекрасными пейзажами, воздействие которых подобно водам Леты, и через двадцать четыре часа я позабыл все свои тревоги. Пасху мы провели в монастыре в Мегаспелионе, вокруг которого ходили скандальные истории об амурных связях местных монахов с девушками из окрестных деревень. Мегаспелион считался обладателем чудотворной иконы Божьей Матери, написанной Святым Лукой.
Еще помню, как мы стояли над местом битвы в Микенах, глядя на восток вдоль равнины. Подлинность греческих легенд не исчезла в веках. Я видел, как возвращается Агамемнон со своими измученными соратниками, и чувствовал бурные эмоции Клитемнестры гораздо более живо, чем это представлено в трагедии Эсхила. В Греции я впервые начал осознавать, что прошлое бессмертно. Я понял, что история – это нечто большее, чем просто факт, и недостаточно разума, чтобы постичь ее.
Мы вернулись в Афины, и я решил прекратить бесполезные встречи, на которых я пытался убедить Аристиди действовать, и посвятить себя изучению греческой античности. Я вновь обратился к Афинскому Акрополю. Я хотел понять, как могло было быть создано подобное произведение искусства. Могу сказать, что камень за камнем я изучил весь Акрополь. Я съездил на гору Пентеликон и собственными глазами увидел, как откалывались куски камня, многие из которых все еще лежат у подножья горы. Я разобрался в способе скрепления камней железом и свинцом и изумился той невероятной точности, с которой каждый камень укладывался на свое место. Сравнивая Парфенон с другими греческими зданиями, я убедился, что его создатели владели секретами, потерянными уже в следующем поколении.
Не меньшее впечатление произвели на меня древние скульптуры, недавно обнаруженные под фундаментом доперикловского здания к востоку от Парфенона. При сравнении этих статуй с произведениями периода классицизма мне казалось, что я наблюдаю огромное изменение, которое невозможно объяснить просто сменой стиля. Как переход от Солона к Периклу, от Гесиода к Еврипиду нельзя свести только к фактам, так и изменения в искусстве Греции слишком грандиозны и чересчур стремительны, чтобы быть объяснимыми простым ходом развития.
На северных склонах горы Пентеликон сохранились малоизвестные святилища культа Орфея. Археологи считают, что они были заброшены до 500 года до Рождества Христова, во времена, когда греческая драма вытеснила древние церемонии. Сидя в развалинах, бывших когда-то местом поклонения, я ощущал силу верований, требовавших долгих и тайных приготовлений, но я понимал, насколько чужда моим убеждениям вера в то, что тайна, сама по себе, является заслугой и, что только несколько посвященных могли участвовать в священных мистериях. Сегодня нам трудно себе представить, насколько велика должна была быть та духовная революция, которая позволила всем афинским жителям равно участвовать в культовых празднованиях в открытых театрах.
В то время произошло одно незначительное событие, тем не менее, надолго мне запомнившееся. Однажды после обильных паводков в Афинах, во время которых утонуло несколько человек, я шел по Омония-стрит, как вдруг наткнулся взглядом на устрашающего вида окно, в котором были выставлены восковые фигуры, изображавшие умерших и умирающих от чумы людей. Это было сделано, чтобы поддержать кампанию по проведению профилактических прививок, но отталкивающие фигуры вызвали во мне совсем другой поток мыслей:»Вот он я с сильным, здоровым внешне телом, но как я выгляжу изнутри? Мое внутреннее состояние больно и выглядит не менее отвратительно, чем любая из этих кукол, но оно скрыто от внешних взоров. Я полон похоти и злобы, но не могу себя изменить. Что пользы в здоровом теле с больной душой? Я должен измениться, чего бы мне это ни стоило. Я должен был отбросить все соображения и остаться с Гурджиевым. В конце концов, он владеет методом – у меня же только одни теории. Он говорил со мной о Бытии при нашей первой и последней встрече. Я знаю все больше и больше, но остаюсь ничем, я должен освободиться от всего этого и вернуться к работе над собой». Это произошло, когда мне было почти тридцать лет. Я говорил себе: «Прошло почти десять лет с тех пор, как я начал поиск, и пока я еще ничего не нашел. Я нахожусь не в лучшем положении, чем практически любой другой человек на этой земле. Если бы мы только могли видеть себя и других изнутри, как я вижу сейчас, все бы изменилось. Почему мы слепы? Или если даже и прозреваем, то забываем об увиденном?»
Вернувшись домой, я рассказал все жене, и мы решили, что я должен предпринять серьезную попытку воплотить на практике то, что узнал от Успенского и Гурджиева. Но, к сожалению, давление внешних обстоятельств оказалось для нас слишком сильным. Я настолько увяз в том, что делал, что не оставалось никакой возможности выбраться, пока решение не пришло другим путем.
Моя растущая отчужденность от Аристиди привела к неожиданным результатам. Он вдруг встревожился. Я использовал это преимущество и заявил, что мое начальство устало ждать и собиралось отправить меня в другую страну. Так случилось, что при переменах в правительстве один из друзей Аристиди занял ключевой пост. За несколько недель моя безнадежная ситуация изменилась настолько, что я был приглашен на встречу, где были принципиально признаны и засвидетельствованы права наследников султана.
К этому времени Нико Николопулюс достал три четверти бумаг, подтверждающих право собственности, так что я мог вернуться в Лондон с впечатляющим набором документов, доказывающих права князей на сотни больших объектов недвижимости, общей стоимостью несколько миллионов фунтов, включая отличные плантации табака в западном Трейсе. Принципалы пришли в восхищение, предложили мне место управляющего директора Эгейского Треста с окладом 5000 фунтов в год и правом организовать в Афинах контору для подготовки проекта развития, подходящего греческому правительству, при условии передачи в наше владение земель и зданий. Так, в тридцать лет, похоже, начали сбываться мои мечты о раннем удалении отдел.
В Лондоне я несколько раз встречался с Успенским, и он убедил меня принять в свой штат двух бывших учеников Гурджиева: Ферапонтова, в прошлом моего инструктора в Prieure, и Иванова, молодого русского бухгалтера. Ферапонтов эмигрировал в Австралию, но не сумел найти там те связи, на которые рассчитывал, и побаивался возвращаться в Европу. Я взял с собой секретаря-англичанина и сельскохозяйственных экспертов, чтобы приступить к делу, как только будет получено разрешение греческого правительства. Моя мать приехала навестить нас в Афинах. Я обнаружил, что Аристиди ждет очередной серии сложных переговоров и не желает обеспечить нам прямой и официальный путь. Дружеское расположение греческого правительства обернулось враждебностью под давлением турецких беженцев, занявших многие из земель, принадлежавших князьям, на том основании или по истинному убеждению, что они принадлежат туркам, репатриированным в Малую Азию. Я начал понимать, что в переговорах я бессилен. Два с половиной года между мной и правительством стоял Аристиди Геориадес, и потерянный навык оказался невосполним.
Тем не менее, в марте 1928 года я получил-таки ответ на план совмещения развития земель и ирригационного проекта, использующего воды озера Эдесса. Утром 21 марта я, как обычно, отправился в контору и обнаружил хозяйничающих там полдюжины греческих полицейских. Они предъявили мне телеграмму из греческого Jude d’Instruction – магистрата, занимающего экспертизой, в которой содержался приказ о моем аресте в связи с подделкой документов, удостоверяющих право владения. Меня отправили в участок, не дав возможности ни с кем переговорить. Моя деятельная секретарша мисс Пирсон сообщила о происшедшем моей жене, которая уведомила Аристиди. Он моментально перепугался и отмежевался от какого-либо участия. Она нашла другого адвоката и начала бороться за мое освобождение.
В Афинах стояла страшная жара, а в камере полицейского участка не было другой мебели, кроме деревянной кровати и стула. Я очень живо помню свои впечатления. Зная, что Нико Николопулюс способен на все, в том числе и на незаконные операции с документами, я не имел шансов доказать, что был в неведении относительно его действий. Меня обвинят и отправят в тюрьму; я не смогу обратиться к британскому правительству за помощью. Все это послужит предлогом для греческого правительства, чтобы отклонить наши притязания, поэтому, несомненно, обвинения против меня тщательно подготовлены.
В этот момент состояние моего сознания изменилось, и я понял, насколько все происходящее не имеет значения. Я позволил себе отклониться от своей настоящей цели, поэтому все, даже тюрьма, теперь лучше для меня, чем интриги, которые, даже в случае успеха, не принесут истинной свободы. Я лег на кровать и мирно заснул. Проснувшись, я узнал, что меня переводят в Афинскую тюрьму до прибытия эксперта из Каваллы.
Следующие несколько недель оказались одними из самых ценных и интересных в моей жизни. Тот, кто никогда не сидел в тюрьме, не зная точно, надеяться ли ему на скорейшее освобождение, не сможет понять переживания заключенного. Конечно, афинская тюрьма 1928 года далека от наших современных представлений о тюрьме. Там вместе содержалось несколько сотен убийц и бандитов, наркоманов и проституток, политических заключенных, людей, уже осужденных и только ожидающих суда. Я был единственным иностранцем, но к тому времени очень хорошо говорил по-гречески, поэтому вскоре совсем освоился. В тюрьме обо мне ходили дичайшие слухи: меня считали анархистом, убийцей, фальшивомонетчиком, поджигателем и британским шпионом. Но это имело небольшое значение: главное, что я принадлежал к братству тех, кто попирал закон. Здесь отсутствовала личная жизнь, дверь в камеру закрывалась только на ночь, всегда горел свет – этот мир был знаком тысячам, но для того, кто входил в него впервые, это было весьма необычно.
Днем, те из нас, кто всего-навсего были «под подозрением», могли свободно передвигаться по тюрьме и принимать посетителей. В тюрьме не полагалось казенных харчей, поэтому заключенные платили за еду. Так, заключенный, попавший сюда за неуплату небольшой суммы денег, мог к концу срока обнаружить, что у него появился счет, который он никак не может оплатить. Те, у кого не было друзей на свободе, мог сидеть месяцы сверх срока, покуда какой-нибудь состоятельный товарищ по несчастью не заплатит его долги. Каждый англичанин считается по определению богачом, поэтому ко мне немедленно потянулись делегации со всей тюрьмы с просьбами о помощи и подробным описанием их жалкого состояния. Не придумав ничего лучшего, я принялся рассматривать каждый случай, чтобы помочь тем, кто действительно нуждался в помощи. Так я узнал о той крайней нищете, в которой могут оказаться жители такой страны, как Греция. Многие шли на воровство, потому что им действительно было нечего есть. В целом с ними обращались мягко, пока не наступало время выхода из тюрьмы и платы по счету.
В афинской тюрьме существовало чувство товарищества, которое было присуще часовым и охранникам. Входя в тюрьму, человек терял один вид свободы, но приобретал другой. Многие из проблем повседневной жизни не касались тех, кто сидел в стенах тюрьмы.
Осужденные содержались в длинных камерах, с одной стеной, от пола до потолка, сделанной из железа, и железной же дверью. В одной из таких камер содержались пятьдесят-шестьдесят наркоманов и, если я правильно помню, люди, осужденные за сексуальные преступления. Это было ужасно и напомнило мне Омония-стрит несколькими месяцами раньше. Но здесь, наконец, отвратительные качества человеческой натуры были на поверхности и видны. Несколько раз я останавливался перед железной решеткой и наблюдал беспокойную массу человеческих существ в лохмотьях. Временами кто-то принимался визжать, кидался на остальных, а они в свою очередь избивали его до тех пор, пока он без сознания не падал на деревянные нары, тянувшиеся вдоль стены. Масса людей никогда не была спокойной, производя впечатление монстра, корчащегося в вязком болоте, в котором нельзя было различить отдельных людей. Зрелище и ужасало и притягивало меня, поскольку раньше мне не доводилось своими глазами наблюдать деградацию человеческой натуры, вызванную такой материальной причиной, как прием наркотиков. Воры и мошенники производили более нормальное впечатление, хотя, с точки зрения морали, трудно утверждать, что несчастный, беспомощно отдавшийся наркотической зависимости, более безнравственен, нежели мошенник, сохранивший свое здоровье, но разрушивший жизни невинных людей.
Сам я не очень страдал. Каждый день жена приносила мне еду, приготовленную поваром-энтузиастом, греком, считавшим, что я герой, угодивший в тюрьму «из-за Венизелоса». Мой адвокат отправился в Каваллу, где нашел, что произошла простая ошибка.
Эксперт, молодой и неопытный, поддался слухам, что мой агент Нико раздобыл поддельные документы, чтобы выселить крестьян с табачных полей. Тем не менее, дело уже зашло слишком далеко. Вокруг него была поднята такая шумиха, что закрыть дело – значило уронить престиж греческих властей, и более того, значительно усилить наше положение, поскольку это бы означало, что наши документы подлинные. Подделки или фальсификации документов не было, но местное регистрационное отделение по просьбе Нико выдало удостоверенные копии, чего, согласно инструкции, они не должны были делать. Нико действовал по закону, но он убедил регистраторов предпринять неосторожные действия.
Пока я был в тюрьме, меня регулярно навещали жена и мать. Моя мать была очень огорчена. Она ничего не понимала в происходящем, и ни у кого не находилось времени толком все ей объяснить. Один из моих содиректоров Ширли X. Дженкс прибыл из Лондона для соблюдения интересов Эгейского треста. Он посоветовал моей матери немедленно возвращаться в Англию. Она решила отправиться к сестре во Флоренцию, и он посадил ее на пароход раньше, чем моя жена успела вернуть ей уверенность. Она была расстроена не фактическим событием, а потому, что боялась, как бы я не унаследовал слабость моего отца, который вечно влипал в разные истории, когда мы былиеще детьми.
Мои адвокаты предлагали различные способы освобождения. Один из них предполагал, что греческие власти закроют дело, если я покину страну. Это было неприемлемо, так как подразумевало отказ от наших притязаний безо всякой веской на то причины. Другой, еще более дикий путь – обвинить беднягу Нико, томившегося в тюрьме в Кавалле, во взяточничестве и коррупции, а меня объявить невиновным как находящегося в неведении относительно действий моего агента. Не было никаких данных в пользу того, что Нико действовал с помощью взяток, поэтому было бы несправедливо взвалить на него всю вину. В действительности, я был убежден, что Нико скорее прибегал к помощи бутылки вина или другой столь же невинной плате. Он даже не получал от меня денег, достаточных, чтобы платить взятки.
Затем было предложено, чтобы я был освобожден под залог. Казалось, что это просто, но тут на сцене вновь появился Аристиди Георгиадес. Он осознал совершенную им ошибку и настаивал на использовании того замешательства, в котором находилось греческое правительство, для того, чтобы форсировать признание подлинности спорных документов. Он горячо Доказывал, что я должен быть освобожден без всяких условий. Несколько недель переговоров не принесли желаемого результата. Жена взяла ситуацию в свои руки. Ее греческая приятельница, работница Красного Креста, заверила ее, что я легко могу имитировать болезнь, власти испугаются и тут же освободят меня. Я не хотел соглашаться с предложенным ею способом. Мне нужно было сделать вид, что у меня приступ аппендицита, описать соответствующие признаки, и желательно иметь высокую температуру. Последнего можно было добиться без труда, выпив немного йода за несколько часов до врачебного осмотра.
Единственным местом, где тайно можно было выпить йод, была уборная, о которой я не упоминал, поскольку нет слов для ее описания. Предполагалось, что заключенные должны чистить уборную, но их никогда не проверяли, и оставалось только удивляться, как те заключенные, которые ее посещали, не подхватывали серьезные болезни. Признаюсь, я боялся. Меня предупредили, что несколько первых минут будут неприятными, но в целом йод не принесет никакого вреда, но я слабо верил в успех нашего предприятия. Однако я обещал попытаться и при первой возможности спустился в ужасное отхожее место и выпил нужное количество. Казалось, йод сжег слизистую глотки, я задохнулся и с минуту не мог дышать. Меня зазнобило, и, когда я с трудом добрался до кровати, у меня были все признаки острой лихорадки. Доктор должен был приехать ко мне через два часа, но, прождав четыре, я узнал, что ему что-то помешало и он придет только на следующий день.
Мысль о повторении представления подкосила меня, и, должно быть, я действительно выглядел больным, так как начальник тюрьмы встревожился и послал за тюремным врачом. Поскольку было задумано, что меня должен осмотреть независимый врач, я отказался и провел пренеприятнейшую ночь. Однако к утру действие йода прекратилось, и я смог выйти к своей жене, пришедшей навестить меня. Она ужаснулась моему виду, но вышла и вскоре вернулась с еще одним пузырьком йода, чувствуя, что любой ценой должна вытащить меня из тюрьмы.
Нелегко хладнокровно подвергать себя физическим страданиям, и я все еще боялся, что что-нибудь сорвется. При мысли о том, что я вновь окажусь в том отхожем месте, я испытывал непреодолимую тошноту. Но и такой опыт также до некоторой степени способствовал отделению внутреннего от внешнего. Я начал ощущать внутреннюю невовлеченность в страдания физического тела, с которым столь скверно обращались, и к тому времени был способен относиться ко всему происходящему так, словно бы это меня не касалось. Уловка удалась. В тот же вечер было выдано заключение о необходимости медицинского лечения, и меня перевели в больницу. Моя жена, в те дни перенесшая тяжеленный бронхит, ни разу не пропустила времени посещения тюрьмы и скрывала от меня свои страдания, так что я узнал о ее болезни только после освобождения. Моя мать уже уехала во Флоренцию к сестре на виллу Лемми.
Затем начались длительные маневры, чтобы начать судебное разбирательство. Греческие чиновники делали все, чтобы затормозить движение дела. Пока они тянули время, невозможно было продолжать переговоры, и, хотя Министерство Общественных работ благосклонно относилось к ирригационному проекту, оно не могло действовать без учета интересов беженцев, которые осели на нескольких фермах.
Эксперт закончил свои исследования и не нашел никаких свидетельств в пользу подделки. Тем временем Нико Николопулюс умер в Кавалльгкой тюрьме при невыясненных обстоятельствах, по официальной версии, от сердечной недостаточности, что вполне могло быть и правдой. Я был очень опечален сообщением о смерти Нико, так как не смог добиться его освобождения под залог и дал себя убедить адвокатам, которые утверждали, что ему лучше оставаться под стражей как жертве несправедливости.
Для оказания давления на греческих влиятельных людей мне посоветовали пожить в Кавалле, где в малом суде должно было слушаться дело. Мы с женой провели в этом маленьком греческом порту шесть-восемь недель. Греки обладают изумительными способностями грезить о великом, даже когда факты свидетельствуют о нищете и бессилии. Это было их силой, как, например, во времена Байрона, когда они первыми из покоренных султаном народов сбросили турецкое иго. Но иногда это выглядит просто смешно. Как-то раз мы с женой проходили мимо маленького чистенького домика в пригороде Каваллы, на котором висела огромная доска, гласившая: «Панкосмическая школа танца!» Имея дело с греками, нужно всегда учитывать их панкосмические притязания и не принимать их слишком всерьез.
В Кавалле делать было совершенно нечего, и я принялся за Упанишады. У меня был санскритский текст и английский перевод шести основных Упанишад, и, работая по несколько часов в день, я привел их в соответствие, которым пользуюсь и по сей день. Я также увидел некоторое психологическое значение особой последовательности идей в Упанишадах. Мне кажется, что западные студенты, которые, вслед за Шопенгауэром, относят Упанишады к проявлению вульгарного монизма или опираются на комментаторов, подобных Шанкарахарии, представивших свои трактовки через тысячи лет после Упанишад, потеряли связь с психологическим значением ритуала и пропускают многое из того, что можно узнать из этих древних работ.
Кавалла лежит в широкой бухте позади острова Тасос с самой высокой горной вершиной, сверкающей в лучах заходящего солнца. К юго-востоку находится священная гора Атоса, видимая почти каждый день в ясную погоду. Я хотел съездить к горе Атоса, но, неделя за неделей, откладывал поездку, ожидая, что задержусь в Кавалле до холодных осенних дней. Однажды я получил телеграмму, приглашающую меня в Лондон на совещание с моими хозяевами. Я выехал на следующий день, так и не посетив гору Атоса, но обогащенный тем уроком, что надо использовать открывающиеся нам возможности сегодня, не ожидая более удобного «завтра».
В Лондоне я обнаружил группу встревоженных людей, которые явно хотели от меня избавиться. Я не ошибался в оценке моего положения. Я ничем не согрешил против закона или морали, но привел весь проект к провалу. Я порекомендовал воспользоваться услугами Николопулюса, кроме того, Аристиди не преминул напомнить свой совет оставить в запасе документы о праве владения до достижения соглашения. Человеку присуще давать противоречивые советы, но вспоминать только те, которые оказались верными. Я ушел с поста управляющего директора, а Председатель согласился выкупить долю в компании, принадлежавшую мне. Компания взяла на себя расходы по моей защите. До Рождества 1928 года я оставался в Лондоне, чувствуя, как внезапно все смешалось в моей жизни, и понятия не имея, что мне делать дальше. Я убивал время, играя в шахматы, принял участие в Рождественском Съезде Гастингса, а также играл в команде за Кент. Играя на второй доске, я мог сразиться с лучшими игроками Англии. Этот опыт позволил мне увидеть свой серьезный недостаток. Я оценивал позиции так же, как и лучшие игроки, но из-за нетерпеливости проигрывал партии, которые явно мог бы выиграть. Таким я был, таким я и оставался. Увидеть собственные недостатки не означает наполовину их исправить. В большинстве своем люди не учатся на своих ошибках, как и на ошибках других. В некоторой степени мы приобретаем из опыта условные рефлексы, как собаки Павлова, но не учимся.
Шел 1929 год, мировую экономику сотрясали кризисы. Я мог позволить себе не зарабатывать на жизнь, и мы с женой спокойно жили в Лондоне. С Успенским я не общался по причинам, описанным в следующей главе. Вернулась моя мать, восстановившая свое обычное спокойствие и присутствие духа. Во время месяцев ожидания я начал писать, пытаясь выразить свое убеждение в том, что невидимый мир вечностных потенциальностей постоянно связан с миром актуальных событий. Таким образом я вернулся к изучению математики, заброшенной мною на восемь лет.
Зима сменилась весной, весна-летом, когда наконец я получил телеграмму, в которой сообщалось, что слушание дела назначено на 27 сентября в суде второй инстанции в Салониках, столице Македонии. Мы с женой вернулись в Афины Восточным Экспрессом, на котором так много путешествовали. Слушание длилось шестнадцать дней, три из которых я провел на месте для свидетелей. Я решил, вопреки советам своих адвокатов, не пользоваться услугами переводчика. В то время я очень хорошо владел современным греческим, но они очень боялись, что я попадусь в какую-нибудь ловушку. На открытии дела стало ясно, что за все эти месяцы не появилось никаких новых свидетельств против меня, и основная опасность исходила от меня самого. Но я настоял, уверенный, что смогу справиться. Допросы и перекрестные допросы длились много часов, пока наконец общественный обвинитель, мистер Георг Экзархопулюс, не поднялся и не заявил, что не может представить никаких доказательств моей вины и предлагает закрыть дело. Суд присудил греческое правительство выплатить нам издержки, и наделавшее много шума «Дело о подделке документов» закончилось.
Одним из следствий такого решения стало усиление притязаний князей. Группа, финансирующая Эгейский Трест, ощущала, как и все в мире, начало великой депрессии. Исчезла перспектива каких-либо крупных денежных вложений в Грецию. Была потеряна замечательная возможность дать работу десяткам тысяч греческих беженцев. Греческое правительство переживало тяжелый кризис, и, когда в конце года Венизелос вернулся к власти с надеждой на стабильность, сделать что-либо было уже практически невозможно.
Тем не менее, Эгейский Трест принял решение продолжать переговоры. Было очевидно, что” от меня мало толку, и я с огромной благодарностью получил значительную компенсацию за прерывание моего контракта. Я относился к себе гораздо хуже, чем другие. Часть моей жизни, продолжавшаяся восемь лет, закончилась поражением. С двадцати четырех лет я занимался делами наследников Абдула Хамида. Теперь мне было тридцать два; полностью оправдалось пророчество Успенского, что я потеряю и коня, и себя. Начинать сызнова было не так легко: сказывалось напряжение последнего года. Физически я очень ослабел: туберкулез, поселившийся в моих легких четыре года назад, обострился, и мой изможденный вид не на шутку пугал моих друзей. Я потерял уверенность в себе, чувствуя, что все, чего бы я ни коснулся, обречено на провал. Я очень хотел вернуться к работе с Успенским, но не имел никаких перспектив устроиться в Англии.
Глава 13
Назад, в науку
Годы с 1929 по 1933 стали годами больших перемен в моей жизни. В это время тесная связь с Ближним Востоком, длившаяся четырнадцать лет, оборвалась. Из международного искателя приключений я превратился в ученого, занимающегося специализированной областью индустриальных исследований. Труднее описать изменения в моей внутренней жизни, но они были не менее определенными. До этого я искал только собственную реализации, теперь я почувствовал ответственность за благополучие других.
По древнему преданию, душа человека рождается, когда он достигает тридцатитрехлетнего возраста. Несомненно, это предание связано с таинственной причастностью к смерти и воскрешению Христа, но впервые я услышал об этом от мусульманина многими годами позже того времени, о котором сейчас идет речь. Тем не менее, оглядываясь назад, я думаю, что горькие переживания в Афинах были неким родом смерти, а по возвращении в Англию началась новая жизнь.
Мои связи с Грецией не закончились. Во время процесса в Салониках меня навестил греческий инженер, случайный афинский знакомый по имени Димитрий Диамандопулюс. Он сказал, что убежден в том, что я являюсь жертвой тайного заговора против Венизелоса, и поражен моими планами по развитию турецкой недвижимости, которые я высказывал на суде. Он был единственным владельцем концессии добычи бурого угля в Веви, но без финансовых связей у него не было перспектив развития. Он предложил мне в качестве подарка половинную долю в деле, если я съезжу туда перед отправлением в Лондон и помогу в ее разработке.
Ничто не гнало нас в Англию, поэтому мы с женой решили поехать. Признаюсь, я был очень тронут таким проявлением доверия, столь отличающимся от моего внутреннего отношения к себе. Меня также привлекала мысль сделать что-нибудь конструктивное для Греции, которую, несмотря на все выпавшие на мою долю неприятности, я начинал любить.
По окончании поездки мы с женой поездом вернулись в Эдессу, город, знаменитый событиями раннехристианского периода, находящийся в преддверии горной части Албании. Здесь нас встретил Диамондопулюс, и мы на автомобиле проехали через Боденское ущелье к озеру Острово, в сотне миль к западу от Салоников на высоте две тысячи футов над уровнем моря. Оно имеет удивительные географические особенности по многим причинам. Пятнадцать миль в длину и шесть миль в ширину, оно чрезвычайно глубокое: в действительности его дна в самых глубоких местах так и не удалось достать. В его водах водились сомы весом до двухсот фунтов. Оно замечательно умело изменять свою глубину на тридцать футов в течение семидесятилетнего цикла. Этим объясняется наличием огромных пещер в известняковой горе Голем-Реки, где я бывал раньше по пути с востока. Пещеры действовали наподобие сифона, периодически то наполняясь водами Острово, то опустевая. Само озеро не имело прямого выхода к морю. Когда в 1880 году строили железную дорогу в Тирново, уровень воды был низким. К 1910 году вода поднялась и накрыла колею. В 1929 году, ко времени моего приезда, вода вновь опустилась, и показались старые рельсы.
К северу от Острово мы въехали на дикое, едва заселенное плато, на котором близко к поверхности залегали огромные запасы бурого угля. Мы остановились в деревне Веви, крошечном поселении, насчитывающем около двадцати домов, и нас приютила крестьянская греческая семья. Для меня это был безграничный отдых вдали от городской жизни и знакомых.
Тридцать лет назад северо-западная Македония была дикой, неразвитой страной. Болота вокруг Острово служили естественным заповедником для всех видов болотных птиц. Встречались также и горные птицы. В первое утро по приезде мы наблюдали пару огромных белых орлов, летящих вниз с Албанских гор. Это были великолепные творения, способные унести взрослую овцу или козу. Жители деревни не пытались охотиться на них, несмотря на нехватку пищи, так как верили, что орлы приносят удачу.
Угольная шахта в Веви состояла из одной штольни, или горизонтальной галереи, прорытой в склоне глубокого оврага. Главный пласт толщиной около сорока футов в основном состоял из ксилита и бурого угля. Стволы деревьев, покрывавших Южную Европу миллионы лет назад, погрузились под воду и образовали отложения. Среди пластов можно было даже распознать штабеля, сохранившихся карбонизированных древесных стволов. Я впервые видел столь большие запасы угля. Картина громадного запаса энергии, хранившегося миллионы лет и ожидавшего, когда человек придет и использует его, стало своего рода вызовом, с каким я не сталкивался раньше. Я решил сделать все, что в моих силах, чтобы помочь Диамандопулюсу, и поспешил обратно в Англию.
Единственный специалист по добыче угля, которого я знал, был Джеймс Дуглас-Генри, бывший в свое время моим соперником в деле наследников Абдулы Хамида. Мы подружились, он познакомился с Успенским и очень зауважал его. Пока я был в Греции, он с женой присоединился к кружку Успенского.
Мои отношения с Успенским испортились. Осенью 1929 года я окончательно вернулся в Лондон и позвонил ему, но был встречен грубым отказом. Мистер Успенский отказался меня видеть и запретил своим ученикам общаться со мной каким бы то ни было образом. Только в 1930 году я узнал причину такого отлучения. Когда меня арестовали, Успенский прислал мне дружескую телеграмму, в которой говорилось: «Сочувствую Беннетту, подпавшему под девяносто шесть законов». Это было напоминанием гурджиевской доктрины о том, что человек живет на этой земле, при этом сорок восемь различных ограничений и запрещений связывают его свободу действий. Вследствие своей глупости и слабости он может подпасть под действие девяноста шести законов, когда теряется возможность всякого выбора.
Очень хорошо понимая справедливость сказанного в телеграмме, я не чувствовал себя изгнанным. Вскоре в Англию вернулись Ферапонтов и Иванов, и осенью 1928 года я видел их вместе с Успенским.
Однако случилось так, что во время обыска в моей квартире в марте 1928 года греческая полиция забрала все письма, которые обнаружила. Среди них были два или три письма от Успенского, и полицейские, увидев русское имя, решили, что оно означает некую связь с коммунистами. Письма ко мне не вернулись, но были отправлены в Британское посольство для выяснения их политической значимости.
В результате, пока я находился в Кавалле, Успенского вызвали в министерство иностранных дел и поинтересовались его возможной связью с большевистской Россией. Он фанатично ненавидел большевиков, и мысль о связи с ними так разозлила его, что он долго не мог меня простить. Более того, опыт жизни в России сделал его подозрительным по отношению к полиции, поэтому он счел за благо порвать с тем, кто был столь неосторожен, как я.
Поначалу я испугался. Я подумывал о возвращении к Гурджиеву. У меня была возможность поехать в Париж, и я тут же направился в Prieure и спросил о нем. Привратник – француз сказал, что русские уехали, но больше ничего не знал. Я наводил справки в Париже, но не смог выяснить что-либо. Позднее я услышал, что в то время он был в Соединенных Штатах, переживая критический период собственного развития. Закончив свои книги, он готовился к еще одной попытке применить на практике ту психокосмологическую систему, которую разрабатывал с юности. Он не поддерживал связи с учениками в Европе. Таким образом, я был отрезан от источника помощи в моей духовной жизни.
Мы с женой сняли очень дешевую квартиру в Пимлико так, чтобы не растрачивать мои скромные средства. Несмотря на депрессию или, возможно, благодаря ей, я быстро нашел спонсоров для проекта, требовавшего небольших затрат. Дуглас-Генри представил меня еврею-финансисту, который заверил меня, что предоставит все требуемое финансирование, если получит хорошие технические отчеты.
Несколькими месяцами позже мы с женой вернулись в Веви, на этот раз с Дугласом-Генри и экспертом-угольщиком. Нужно было взять несколько проб, чтобы оценить уровень залегания угля. Это не заняло много времени. Я же пока собирал информацию об угольном рынке, транспорте, доступности рабочей силы и т. д. Я был очень доволен работой, так как у нее было качество объективности, отсутствовавшее в деле наследников Абдулы Хамида.
В Веви мы стали свидетелем события, которое часто описывается, но, тем не менее, произвело на меня огромное впечатление. Болота в Острово -место летней встречи аистов со всей Европы. В Македонии аисты встречаются довольно часто, но тут они прилетали по шесть, десять, двадцать и более птиц вместе. Это продолжалось четыре или пять дней, при этом аисты становились все более и более взволнованными. Они кружили все большими и большими стаями над болотами и воздух наполнялся бесконечным клекотом их голосов. Однажды рано утром мы услышали громкий звук и, выбежав из дома, увидели ожившее болото, сплошь покрытое взлетающими аистами. Мы находились к югу от болот, тянувшихся на много миль к северу. Неисчислимое количество птиц приняло форму огромной плотной колонны, а одинокие разведчики летели на расстоянии сотни ярдов от главной стаи. Они летели прямо над моей головой, и небо буквально потемнело. Я попытался было сосчитать их, но на шестой сотне сбился со счета; впечатление оказалось слишком сильным, чтобы выражаться в числах.
Я не сомневался в присутствии разума, действующего совсем не так, как человеческий. Долго после того, как птицы улетели, я стоял в изумлении. Я понял, что существует коллективное сознание, которое помнит, видит, знает сложный паттерн жизни аистов, но при этом не мыслит и не общается с помощью слов. Коллективное сознание каким-то образом собирает, объединяя жизни и цели, десятки тысяч аистов, покидающих летом крыши домов по всей Европе. Оно собирает вместе своих членов, и на короткое время можно увидеть великое Существо Аиста, чтобы затем оно вновь рассыпалось по речным берегам Египта и Эфиопии.
Мы немного знаем о таких сообществах и о коллективном сознании, которое разделяют их члены. Стоя в молчании, провожая взглядом огромных птиц, я внезапно увидел будущее человечества. Однажды мы приобретем человеческое коллективное осознание. Возможно, нам понадобятся миллионы лет, но в конце концов мы овладеем силой, несравнимой с силой ни одного их живущих видов. В этом видении, однако, время решающего шага вперед представлялось не столь отдаленным, и вскоре человечество могло уже выйти за узкие рамки национальностей, рас и религий в стремлении к единению.
Видение на несколько дней привело меня в состояние экзальтации. Я поговорил с женой о том, что увидел, и поделился с ней желанием рассказать об этом другим людям по возвращении в Лондон. Это подтверждало многое из того, что я узнал от Гурджиева и Успенского, и, если я не мог дальше учиться у них, я должен был сам начать работать с другими. Я был убежден в бессмысленности работы в одиночку. Жена пошла даже еще дальше, чем я надеялся. «Тебе пришло это видение, поскольку у тебя есть собственная задача. Ты слишком зависел от других. Если Успенский и отвернулся от тебя, то только потому, что знал – ты должен работать самостоятельно: собрать вокруг себя учеников и основать школу. Ты совершаешь ошибку, не доверяя себе и собственным силам».
Я не мог согласиться с ней. Слишком уж бросались в глаза мои недостатки. Я помнил о видении в Скутари восьмью годами раньше, когда мне было сказано, что об истинном значении своей жизни я узнаю не раньше, чем в шестьдесят лет, поэтому был уверен, что мне необходимо готовиться и еще далеко до собственного пути в духовном развитии.
Как бы там ни было, состояние повышенного осознания имело один явный результат. На следующий день я отправился в шахту и, глядя на пласт, только что срезанный Дугласом-Генри, понял, что некоторые деревья были превращены в древесный уголь, по-видимому, лесными пожарами миллионы лет назад.
Пока я смотрел на него, мне пришла в голову мысль: «Почему бы его весь не превратить в древесный уголь, основное топливо в греческих городах и селах? Леса опустошаются для получения древесного угля, а здесь имеется его дешевый и обильный источник».
Встретив Дугласа-Генри, я поделился с ним своими соображениями, и мы немедленно обуглили немного сухого бурого угля. В результате получилось нечто, столь похожее на древесный уголь, что мы немедленно загорелись энтузиазмом. В то время Греция зависела от импорта древесного угля из Югославии, а перед нами открывалась возможность не только самообеспечения Греции, но и его экспорта в средиземноморские страны, где древесный уголь все еще использовался в качестве топлива.
Я возвратился в Англию с большим запасом образцов бурого угля и лигнита и обратился к источнику знаний, никогда меня не подводившему: библиотеке Британского музея. Я нашел там несколько книг об угле, но ни одна из них не содержала значимой информации о лигните. Я решил провести собственные эксперименты. Я был лучшим учеником в школе по химии, хотя мое сердце принадлежало математике. Я выяснил, что Северный Политехнический институт предоставляет возможность частных исследований и объявил себя студентом, исследующим химию угля. Первые эксперименты оказались разочаровывающими: хотя я и получал древесный уголь, он горел с отвратительным запахом, делавшим его непригодным для приготовления пищи. Руководитель отдела, заинтересовавшись моими изысканиями, предложил мне проконсультироваться с Департаментом исследования топлива и познакомил меня с его директором, доктором С. X. Лэндером, наиболее добрым и отзывчивым человеком, который согласился нам помочь.
Я составил предварительное сообщение, которое получило одобрение, и вскоре была основана компания по добыче угля и развитию горнодобывающей промышленности Греции, установлен капитал и я назначен главным директором. Я обратился к сэру Джону Ставриди, председателю Йонианского банка, близкому другу Венизелоса. Он воодушевился. Сэр Сидней Лофорд, друг Дугласа-Генри, генерал в отставке, стал председателем компании, и недалеко от Лондонской стены были открыты офисы.
Мы с женой переехали в комфортабельную квартиру рядом с Брайанской площадью и принялись возобновлять знакомства в надежде, что некоторые из прежних друзей захотят работать со мной. Из этих планов ничего не вышло, но две или три случайные встречи изменили картину. Жена отправилась в Швейцарию к князю Сабахеддину и повезла ему немного денег. В поезде она познакомилась с молодым человеком, Л юсьеном Майером, и он так загорелся нашими идеями, что попросил разрешения присоединиться к нашей группе. Вскоре после ее возвращения в Лондон в шестнадцатом автобусе между углом Гайд-парка и Викторией она познакомилась с женщиной, миссис Бибан Доби, которая с готовностью откликнулась на ее предложение поучиться. Я повстречал молодого одаренного химика в Северном Политехническом, который хотел найти новую картину мира, более всеохватывающую, чем могла предложить наука. Сестра моей жены, оперная певица, только что приехавшая из Парижа в Англию, присоединилась к нашему кружку с несколькими друзьями.
Таким образом, постепенно и без всякого плана в 1930 году возникла первая группа, за которую я нес полную ответственность. У нас дома прошли одна-две предварительные встречи. Увидев серьезную готовность работать, я глубоко задумался над складывающейся ситуацией. Я не считал для себя правильным выступать в качестве толкователя Системы Гурджиева без разрешения его самого или, по крайней мере, Успенского. Наконец, я решил, что надо начинать, но составлять полный отчет о каждом собрании и посылать его Успенскому. Посылая свои отчеты, я указывал, что, если он не одобряет моих действий, ему стоит только сказать, и я прекращу.
Месяцы шли, но в ответ я не получил ни слова. Группа медленно росла. Наши занятия служили мне самому громадным стимулирующим фактором. Я принялся усиленно бороться с собственными слабостями и привычками, что я уже давным-давно забросил. Я сохранил копии многих отчетов, которые посылал Успенскому. То, что я говорил, было интересно и часто верно, но, читая их почти через тридцать лет, я с болью осознаю, насколько в то время был далек от настоящих человеческих чувств. Я работал и учил только своим интеллектом. Сердце оставалось холодным, и даже видение человеческого единства, открывшееся мне в Веви, не сделало меня чувствительным к теплу человеческого общения.
Я убежденно говорил о различиях между знанием и бытием. Я помнил, что каждая беседа Гурджиева со мной фактически была вариацией на эту тему. Но я так и не понял то, о чем сам рассказывал. Я не мог усвоить простую истину: мне дали почувствовать вкус бытия, но не дали его самого. Я был столь же слаб и непостоянен, как и любой другой человек, и настолько же заблуждался относительно самого себя.
Закончилось лето 1930 года. Проект по разработке бурого угля успешно продвигался. Я постепенно приобретал уверенность, потерянную в 1928 году. В начале октября я неожиданно получил телефонное послание от секретаря Успенского, мадам Кадлубовской: «Мистер Успенский просит передать, что вы и миссис Беннетт с мистером Майерсом, миссис Доби, мистером Биньоном и майором Тернером можете прийти на лекцию в Ворвик Гарденс в следующую среду». Это было первое и единственное указание на то, что Успенский получал мои отчеты.
Та лекция была первой в серии, называвшейся, насколько я помню, «Поиск объективного сознания». Они вызвали в Лондоне большой интерес. Успенский выждал почти семь лет после разрыва с Гурджиевым. Все это время он продолжал работать с сорока или пятьюдесятью учениками в условиях строжайшей тайны. Теперь, решил он, пришло время предать гласности результаты этой работы. Ни словом не вспомнив прошлое, он позволил мне не только посещать его собрания, но вскоре поручил мне читать лекции вслух в его присутствии. Зачастую одну и ту же лекцию приходилось повторять два или три раза в неделю, столь значительным был поток людей, заинтересованных или, по большей мере, любопытных.
Успенский позволил мне навещать его на Гвендвр-роад, как бывало пять лет назад. Как-то он сказал мне: «Я ждал все эти годы, так как хотел узнать, что будет делать мистер Гурджиев. Его работа не принесла тех результатов, на которые он надеялся. Я все еще уверен, что существует Великий Источник ,из которого пришла его Система. У мистера Гурджиева должна быть связь с этим Источником, но не думаю, чтобы она была полной. Что-то упущено, и он не может это найти. Если мы не можем установить связь через него, остается надежда прямого контакта с Источником. Но, ища, мы ничего не добьемся: он спрятан гораздо надежнее, чем принято думать. Следовательно, остается одна надежда: Источник сам будет искать нас. Поэтому я здесь, в Лондоне, читаю эти лекции. Если те, кто имеют истинные знания, увидят, что мы можем быть им полезны, они пришлют кого-нибудь. Но надо понимать, что сами для себя мы ничего не можем сделать. Самый важный секрет все еще не раскрыт. Мы можем подготовиться и подготовить других, но не можем сделать ничего позитивного».
Прошло около двадцати лет, прежде чем я осознал все значение этих слов Успенского. Со своей стороны я был занят гораздо более личной проблемой: примирить принятие ответственности и отказ от упрямства. Я ощущал настоятельную потреби ость углубления моей духовной жизни. Меня слишком легко уводили с пути истинного земные дела, и главным своим недостатком я считал нехватку настойчивости. Мне никогда не удавалось вести дневник: что-то в моей природе отрицало всякую попытку связи с прошлым. В первый день нового, 1931 года, я глубоко размышлял над своим положением. Казалось, что за три года я смогу освободиться от привязанности к материальным заботам, и я хотел подготовиться полностью посвятить себя духовной работе. ” Наконец, первого января я дал себе слово начать в течение трех дней вести дневник и каждый день тысячу дней записывать то, что я сделал для поддержания своей внутренней работы, и то, в чем я ошибся. Первого октября я писал: «Срок, который я для себя установил, завершился, но особыми результатами я похвастаться не могу. Тем не менее, я достиг того, что задумал».
Мне предстояло пройти еще через множество горьких опытов, и одним из них был греческий лигнитный проект. Я был доволен и горд тем, что мои собственные химические изыскания показали, что чудовищный дым от лигнитного древесного угля происходит от малых количеств серных соединений, называемых меркаптанами. Я выяснил, что при температуре более 900 градусов Цельсия эти соединения разрушаются. Оставалась задача разработки промышленного способа их разрушения.
Доктор Лэндер представил меня доктору Е.В. Смиту, тогда техническому директору компании Вудал-Дакхэм, пионера в производстве вертикальных реторт постоянного действия. Они обеспечивали условия, подходящие для моих целей. Городской газовый департамент Бирмингема любезно предоставил в наше распоряжение уникальные экспериментальные реторты. Эксперимент прошел успешно, поэтому было решено провести более масштабные испытания длительностью три дня, для чего из Греции было привезено сорок тонн бурого угля.
Так случилось, что мистер Венизелос, тогдашний греческий премьер-министр, приехал в Англию и вместе с греческим министром присутствовал на испытании. Официальный завтрак с приветственной речью Остена Чамберлейна сопровождался визитом на Нечеллский газовый завод под проливным дождем. Демонстрация имела непревзойденный успех. Сэр Сидней Лофорд, присоединившийся к компании с определенными дурными предчувствиями, теперь пребывал в восхищении. Венизелос от имени правительства пригласил его посетить Грецию.
Результаты испытаний совместно с подробным анализом нужд и возможностей Греции как топливного рынка былиопубликованы под заглавием «Проблемы греческой топливной промышленности». Это было мое первое печатное выступление, и я очень им гордился. Вырисовывалось широкое поле деятельности, включая цементный завод для утилизации тонкого древесного угля, непригодного в качестве домашнего топлива, электростанцию для снабжения Салоников и гидроэлектростанцию, использующую Эдесские водопады.
Во время одного из моих редких визитов в Грецию по делам, связанным с нашим проектом, Дуглас-Генри сказал мне, что ему поручили срочно представить доклад о золотой жиле в горах к востоку от Салоников. Он предложил освободить несколько дней и съездить туда вместе. Он искал золото в Австралии и не мог сказать сразу, есть ли тут что-нибудь дельное.
Оказалось, что грек, в юности уехавший в Колорадо и ставший золотоискателем, вернулся в родные края, горя желанием найти золото в горах своей родины. Обнаружив, что в древности здесь проводились поисковые работы, заброшенные со времен Филипа Македонского, он провел исследования и заявил, что нашел золотоносную жилу.
До сих пор не могу сказать с уверенностью, была ли вся операция мистификацией. Он показывал образцы богатого золотом кварца, которые могли быть найдены в Македонии или во многих других местах. Вернувшись в Лондон, я провел небольшое историческое исследование, показавшее, что в античное время к югу от Салоников действительно добывали золото, и что жилы, бедные с точки зрения древних, могли бы быть разработаны современными методами. Дуглас-Генри был опытным золотоискателем; я согласился присоединиться к нему в предварительной экспедиции.
В заброшенной, необитаемой долине песочные речные берега выглядели многообещающе, и Дуглас-Генри преподал мне первый урок промывания золотоносного песка. После многих безуспешных попыток я обнаружил «цвет».
Глава 14
Мистер и мадам Успенские
Тут на сцене вновь появляется Софья Григорьевна Успенская – прекрасная дама в полном смысле этого слова. Успенский был ее вторым мужем, у нее была одна дочь и внук, Леонид Савицкий. Впервые я познакомился с этой семьей на острове Принкипо в 1920 году. В Prieure родилась внучка Успенской. Со времени моей последней встречи с мадам Успенской в 1929 году она играет важную роль в моей жизни. Ее влияние, всегда плодотворное, стало одним из основных направляющих факторов моего развития, поэтому я остаюсь перед ней в неоплатном долгу.
Когда в 1924 году Успенский отделился от Гурджиева, она осталась в Prieure. В одном из тогдашних писем она объясняла (цитирую по памяти): «Я не претендую на понимание Георгия Ивановича. Для меня он X. Но я знаю, что он мой учитель, и у меня нет права его судить и нет необходимости его понимать. Никто не знает настоящего Георгия Ивановича, потому что он прячет себя от всех нас. Бесполезно кому-нибудь из нас пытаться его узнать, и я отказываюсь обсуждать это».
В 1929 году Prieure закрылось, Гурджиев уехал в Америку, а мадам Успенская приехала в Англию. Осторожно и тщательно выверив свой путь, она решила остаться и работать с некоторыми из учеников Успенского. Это привело к разделению обязанностей, с течением времени становившемуся все более явным. Мадам Успенская готовила условия для работы, в то время как ее муж оставался учителем, лектором и писателем. Ему не нужны были никакие внешние вспомогательные факторы; десять лет он жил в скромной квартире на Гвендвр-Роуд в Западном Кенсингтоне. Все, что было ему необходимо, – помещение, где он мог проводить свои собрания. Если мадам Успенская хотела делать свою работу, ей нужен был дом, земля, где люди могли вместе жить и работать, как они жили и работали в России во время войны, на Кавказе и в Константинополе после революции и в течение семи лет в Prieure.
У мадам Успенской было свое видение собственной роли. С начала и до конца она настаивала, что не является учителем и отказывалась занимать это ложное для нее положение. Она не могла работать с большими группами и отказывалась браться за любое дело, если не чувствовала в себе сил справиться с ним. Она начала с малого, и прошло два года, прежде чем она согласилась снять дом на длительный срок. Это был Гадсден в Хэйсе, Кент, меньше часа езды на автомобиле из центра Лондона. Гадсден представлял собой старую усадьбу в викторианском стиле, окруженную семью акрами земли. Восемь или десять англичан отправились туда жить и работать с мадам Успенской. Меня не пригласили, да и сам я не мог поехать, не имея ни свободного времени, ни денег. Однако каждое воскресенье я мог приезжать туда и время от времени оставаться на все выходные.
Вскоре сложилось непереносимое положение, так как после первого приезда моей жене запретили появляться там вновь. Я так никогда и не понял причин этого сурового решения. Как бы там ни было, но это означало, что мы не можем быть вместе в тот единственный день в неделе, когда я был не занят. Несколько месяцев мы бы еще вынесли, но, продолжаясь около трех лет, это сильно огорчало мою жену.
Я не мог отказаться от воскресных поездок в Гадсден, а позднее в Лайн Плэйс, гораздо более внушительный дом около Виржиния Уотер, куда Успенские переехали в 1934 году. Работа была очень похожей на ту, что мы выполняли в Prieure: тяжелые физические усилия и нарушающие душевное равновесие психологические условия. Только это одно могло подвигнуть меня не заставлять свою жену страдать. Но главным оказалось мое решение делать все, чего бы Успенский от меня не потребовал, и не задавать вопросов. Я принял его в качестве своего учителя и понимал, что первый долг ученика – исполнительность и безоговорочное послушание.
В моем тогдашнем видении было нечто совершенно искажающее всю картину. Я полагал, что подвергаюсь специальным, сознательно проводимым со мной испытаниям, Успенского я считал всезнающим суперменом и хотел когда-нибудь стать таким же, как и он. Я совершенно не замечал его ограниченности. Если он требовал, чтобы я каждую неделю оставлял свою жену одну, значит, для этого были веские основания, и это в конечном итоге было нам во благо.
Годы самообучения и борьбы с недостатками и слабостями не прошли для меня совершенно даром. Не один раз мне довелось испытать состояние высшего осознания, достижение которого стоило чего угодно. Кроме того, постоянные неудачи в моей внешней жизни ясно показывали, что, покуда я сам не изменюсь, все будет идти наперекосяк. Ко всему этому примешивалось еще что-то вроде духовных амбиций, благодаря которым я так долго хотел стать суперменом. Я твердо верил в гурджиевское заявление, что человек имеет потенциальные возможности достичь высшего уровня бытия. Мой опыт в Prieure приоткрыл мне некоторые силы, появляющиеся в распоряжении человека вместе с таким достижением.
Будучи сам весьма далек от него, я принял как должное, что Гурджиев и мистер и мадам Успенские и, возможно, другие члены этого круга находятся на тех самых высших уровнях. Потому должны быть непогрешимы в оценках и действиях.
Недальновидность подобного отношения я осознал гораздо позднее, прочувствовав его на самом себе. Ранее я имел возможность убедиться в подверженности ошибкам, часто проистекающим из некомпетентности считающихся сильными мира сего, но я перенес это видение на духовных учителей. Оказавшись сам на месте духовного учителя и видя, как мои обычно неверные предположения принимались за истину в последней инстанции, я осознал, как важно всякому, кто как-то направляет других в духовных вопросах, выставлять напоказ собственное несовершенство и ошибки и не допускать, чтобы кто-то из учеников смотрел на него как на всегда правого «авторитета». В этом отношении примером всем нам был Гурджиев, он шокировал и даже вызывал отвращение у тех, кто приходил к нему с намерением учиться.
В первой напечатанной и наиболее противоречивой работе Гурджиева «Вестник грядущего добра» он упоминает о хварено, таинственном атрибуте королевского сана, вера в который была непременной чертой вавилонского митриаизма и упоминания о котором можно отыскать в Ветхом завете и в описании третьего искушения Христа. Человек, обладающий хварено и стремящийся не к внешнему главенствованию, но к духовному лидерству, должен изо всех сил прятать его от посторонних глаз.
В 1931 году я был крайне далек от понимания всего этого. Казалось, что, желая обрести собственную волю, я должен полностью и безоговорочно подчиниться моему учителю. Я не видел, насколько он отделяет себя как обычного человека от той роли, которую он время от времени должен выполнять как учитель. В дальнейшем, когда он пытался обращаться со мной как с другом, я воспринимал это как еще одно испытание послушания.
Поясню на примере, что я имею в виду. Хобби Успенского было собирать старые гравюры. Для его работы ему потребовались гравюры Санкт-Петербурга и Москвы, и он попросил меня найти такой магазин. На Оксфорд-стрит я обнаружил лавку мистера Спенсера, в те времена обладателя одной из самых больших коллекций в мире. Успенский пришел в восхищение и пригласил меня пойти с ним туда как-то часа в два пополудни. Так случилось, что в этот день у меня была встреча с важным клиентом. Я воспринял ситуацию как испытание. Я отменил встречу с клиентом и освободил всю вторую половину дня для Успенского. Он получил массу удовольствия, накупил гравюр и пообещал заглянуть еще через недельку. Затем пригласил меня на чашку чая, который с большим тщанием заваривал собственноручно из особых китайских листьев, выбранных им самим у Twinnings. Я был до смешного чопорным, не понимая, что Успенский – человек, любящий человеческое общение и компании.
Таким образом, я создал себе множество воображаемых врагов. Я безжалостно боролся со своим сознанием, чтобы научиться смирению. Я мог повиноваться Успенскому, но покориться я не мог. Мучимый чувством вины, я знал, что все равно останусь при своем мнении и внутри буду продолжать спорить.
Вот почему вскоре я стал задаваться вопросом: «Если я не могу покориться человеку, сумею ли я смириться перед Господом?» Я не имел представления, что означает этот вопрос, но пытался ответить на него в одиночку. В тот вечер я кружил по Брайнстонской площади, решая эту проблему и чувствуя себя потерянным и отчаявшимся. Я не видел выхода. С одной стороны, был отказ, гораздо более глубокий, чем моя собственная воля, покоряться какому бы то ни было человеку. С другой стороны, была неспособность, гораздо более глубокая, чем мое собственное непонимание, понять, что означает смирение перед Богом.
Жена ждала моего возвращения. Я хотел бы разрыдаться у нее на груди. Но не мог себе этого позволить. Я мог только сказать, что отчаялся, и притом безнадежно. С женской проницательностью она сказала: «Ты расстроен, потому что твои дела не ладятся». Я ужаснулся такому предположению и в тот же момент понял, что это действительно так. Страдало только мое задетое самолюбие, но не было никакого подлинного стремления к недостижимому совершенству.
Я не мог принять эту истину, но теплота и любовь моей жены успокоили мои чувства, и я преисполнился к ней благодарности. Несмотря на все мое невольное пренебрежение, она никогда не отворачивалась от меня, с пониманием относясь к тому хаосу, который царил вокруг и внутри меня.
Благодаря одному из тех важных и определяющих жизнь совпадений, вечером следующего дня Успенский начал новую тему, которая в течение последующих двенадцати лет стала важной частью моей жизни. Он рассказывал о методах, применяющихся в эзотерических школах Азии и Восточной Европы для фиксации внимания и предотвращения блуждания ума в воображаемых далях. Они основаны на том, что память может работать только однолинейно. Вспоминая одно, мы забываем о другом. Упражняя память, мы исключаем случайные мысли. Этого можно достичь заучиванием наизусть или повторением заученного.
На меня это произвело впечатление, так как я всегда задавался вопросом, зачем индусы, мусульмане и христиане выучивают свои священные тексты спустя тысячелетие после исчезновения необходимости хранить их таким образом. Канхере, мой учитель санскрита, показал мне метод, применяемый индийскими браминами для запоминания Вед и браманов. Я был знаком с хафизами, хранителями, знающими Коран наизусть и воспроизводящими их с грамматическими ошибками, допущенными пророком. В греческих ортодоксальных монастырях монахи ставили перед собой задачу запоминания всей Библии; подобные начинания не были знакомы западному христианству до девятнадцатого столетия. Мне они всегда представлялись бессмысленным пережитком тех времен, когда чтение и письмо не были распространены и манускрипты могли легко испортиться или потеряться. Теперь же я осознал, что практика заучивания текстов действительно была пережитком, но не века отсутствия письменности, а времени, когда человек понимал опасность жизни только в своих мыслях.
Успенский продолжал говорить о повторении. Он описал молитву сердца – постоянное повторение фразы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Установленная в греческих ортодоксальных монастырях более тысячи лет назад, эта молитва имела потрясающие результаты, так как монахи и монахини достигали состояния просветления, буквально следуя совету святого Павла молиться, не останавливаясь. Он отметил, что молитва сердца в ее изначальной форме пригодна только для монахов, но форма повторения, менее потрясающая эмоционально, может быть нам полезна.
Он предложил, чтобы некоторые из нас взяли на себя задачу выучить наизусть Нагорную проповедь или даже целиком Евангелия. Другие могут попытаться постоянно повторять молитву сердца, но лучше по-гречески, так как английский вариант не передает ритма оригинала.
Он обошел всех нас, давая каждому индивидуальное задание. Около меня он не остановился, бросив: «Это упражнение для Беннетта не годится». Привыкший к таким ударам, на этот раз я по-настоящему огорчился, так как сильно нуждался в каком-нибудь начинании. Я хотел было тайно выучить Нагорную проповедь, но после короткой внутренней борьбы решил подчиниться. На следующей неделе, в то время как другие описывали свои переживания по поводу этого упражнения, я сидел молча и испытывал величайшее спокойствие и благодарность. Я узнал, насколько лучше нести тяжесть отказа, чем наслаждаться обладанием. Должно быть, почувствовав мое состояние, в конце занятия Успенский сказал: «Теперь, если хотите, Беннетт, можете попробовать повторение».
С этого дня в течение четырех или пяти лет я старался как можно чаще в течение дня повторять молитву сердца по-гречески. Вскоре я смог произносить ее про себя, читая или говоря с другими. Через три года она соединилась с моим дыханием и продолжалась даже тогда, когда я не осознавал этого. Мои дневники 1931-35 гг. полны описаний упражнения повторения. Я выучился, например, молиться одновременно на греческом и латинском с разной скоростью, а потом сумел очень быстро прибавлять молитву на немецком или русском. При этом возникало состояние контролируемой диссоциации: обычная связь между моими интеллектуальной, эмоциональной и инстинктивной функциями нарушалась и взаимодействие нового рода – состояние чистого осознания – вновь собирало их вместе.
В это время я также выучил наизусть Евангелия и навсегда благодарен за теснейшую связь с этими потрясающими текстами, которую я испытывал во время этого упражнения.
Читать такую книгу, такое милое отождествление.
Через несколько недель после введения упражнений запоминания и повторения Успенский отказался обсуждать их результаты на наших встречах, сказав, что они были неверно поняты и, если мы будем настаивать, могут привести к ошибочным результатам. Поскольку в его словах не было прямого запрета, я и еще несколько человек решились продолжать. Считая упражнение повторения очень интимным и личным, я очень редко говорил о нем в течение почти что пятнадцати лет.
Вновь и вновь Успенский предлагал какую-нибудь интереснейшую тему, обещая ее развитие, и вдруг терял к ней всякий интерес через несколько недель или месяцев.
В это время мои собственные занятия, известные как группа Беннетта, продолжались. В 1931 году, когда дела Греческой горнодобывающей компании шли хорошо, я начал эксперимент, который без перерыва сохранился до сих пор. Он заключался в интенсивной совместной работе и учебе в течение определенного периода времени. В августе 1931 года мы отправились в Шорхем-на-море, где за копейки можно было снять большие бунгало, в которых могла спать дюжина человек. В следующем году, когда Греческая горнодобывающая компания как раз ликвидировалась, я вновь поехал туда, на этот раз с двадцатью учениками. Мы с женой ехали из Лондона на автобусе, она очень устала от напряжения, скопившегося за последние месяцы. Читая записи в дневнике, касающиеся четырех недель, проведенных в Шорхеме, я удивляюсь, как другие меня выносили. Мое состояние было жалким, я же им гордился. Если каким-нибудь прекрасным днем мы гуляли вниз до Чанстонбэри-Ринг, все, что я мог написать было следующее: «Есть нечто столь отталкивающее и унизительное в удовольствии, которое человек испытывает от приятных вещей, что он содрогается от отвращения к самому себе в момент осознания». На следующий день я написал: «Ускользнуть от этого ничтожного мира, когда дела идут плохо не легче, чем когда они идут хорошо».
Продолжать рассказывать об этих годах моей жизни скучно, поскольку они также жалки, как и записи в дневнике. Однако и тогда случались моменты просветления и возрождения надежды. Как-то раз, когда Греческая горнодобывающая компания переживала наивысший кризис, во время ланча я отправился прогуляться по Финсбурской площади. Мои мысли витали вокруг проблемы, беспокоившей меня двенадцать лет, о конкретном описании пятого измерения. Как и в июне 1920 года, я «увидел» мир в пятом измерении. В пятом измерении время останавливалось, но жизнь продолжалась. Я увидел жизнь в виде энергии, или, точнее, в виде качества энергии. Проникая в пятое измерение, энергия становилась более тонкой и более интенсивной. Ничего не происходило, но все изменялось. Я видел, что деградации энергии не происходило. Меня осенило, что произойдет, если время остановится. Формула выразилась в словах: «В вечности законы термодинамики меняются на противоположные. В закрытой системе энтропия не меняется, но имеется различная энергия».
Я был переполнен радостью, что мне открылась столь очевидная истина, и не мог понять, как это я проглядел ее раньше. Теперь я понимал, что вечностный паттерн всего, что происходит, имеет свои собственные законы развития, только расположен он не во времени, поэтому в нем нет последовательности. Скорее, он изменяется в направлении интенсификации существования. Я вспомнил слова Гурджиева: «Двое внешне похожих людей могут совершенно по-разному быть. Вы не видите этого, потому что не видите Бытия». Теперь я понял, что это надо воспринимать буквально. «Быть больше» означает находиться на более высоком уровне на шкале вечностных энергий.
На следующий день на очередном собрании Успенского я попытался описать свое видение и понимание, но Успенский отмахнулся от всего этого, назвав «внешним мышлением,» то есть автоматической работой ассоциативного механизма мозга. Я знал, что пытаясь облечь свой опыт в слова, я не могу ничего добиться, только теряю то качество несомненности, которое он содержал. Я был готов принять упрек Успенского, но не мог отречься от своего видения. За десять лет работы с Успенским я несколько раз порывался заговорить о глубоких внутренних переживаниях, например о том, что со мной произошло в 1923 году в Фонтенбло, но я либо вообще не мог произнести ни слова, либо Успенский затыкал мне рот.
В то время я был столь разочарован в своих попытках воплотить на практике то, во что твердо верил теоретически, что готов был признать чью угодно правоту, кроме своей собственной. И в этом, 1932 году, мы с женой провели четыре недели в Шорхеме. Успенские все еще были в Семи Дубах, но собирались переезжать в Гад еден. Однажды меня пригласили приехать туда в воскресенье с несколькими членами моей группы. Со мной отправилась моя жена, Люсьен Майерс и еще кто-то. После ланча нам предложили задать вопросы мадам Успенской. В напряженной атмосфере мы сидели и молчали. Наконец Люсьен начал, и на несколько вопросов она ответила без возражений. Когда он зачитывал из своего списка третий вопрос, она прервала его, говоря: «Есть только один действительно необходимый вопрос: «Что такое работа?» Он не смутился и возразил: «Этот вопрос значится у меня в списке под номером двадцать три». Все рассмеялись и обстановка разрядилась.
Мои собственные вопросы были отвергнуты словами мадам Успенской: «Вы не знаете себя и не осознаете своей механистичности». Я счел этот упрек вполне заслуженным, но на следующий день моя жена поинтересовалась, почему я проявил такую бесхарактерность и неужели мадам Успенская хочет, чтобы люди позволяли вытирать об себя ноги.
Мы вернулись в Лондон. Я был настолько занят самобичеванием и поисками своего сердца, что даже не замечал, как тяжело это отражается на моей жене. Наконец – это случилось 1 сентября 1931 года – я осознал, как она страдает. Несколькими днями раньше ко мне пришли двое из моей группы и признались, насколько они расстроены, чувствуя себя затерявшимися между разоблаченными иллюзиями старого мира и неспособностью осознать новый мир. Я дал им ясное, с моей точки зрения, объяснение их ситуации и причин, почему так должно было случиться. Моя жена молчала. Когда они ушли, она обратилась ко мне: «Они говорили сердцем, но ты отвечал им разумом. Неужели ты не видишь, как и почему они страдают?»
Я привожу эти случаи, чтобы показать, насколько я был далек от понимания других людей, даже моей жены, самого близкого мне человека, единственного, с кем мне было хорошо, и разделявшего все мои горести. Люди шли ко мне, полагая, что я знал ответы на их вопросы, но, поскольку я не понимал, что стоит за этими вопросами, какие глубины их душ, я не мог ничем им помочь.
Между тем жизнь продолжалась. Греческая горнодобывающая компания прекратила свои операции. С большим трудом мы выручили несчастного управляющего и переправили его обратно в Англию. Очередной период моей жизни был завершен. Что-то во мне умерло, но ничего на этом месте не возродилось.
Я не только потерял все свои деньги, но и остался в долгах. Я оставил компании почти всю мою годичную зарплату управляющего директора и платил по обязательствам компании вместо собственных долгов. Мы решили съехать с квартиры в Брайнских Домах и продать все, что только можно. Я расстался с моим бехштейнским пианино и всеми лучшими книгами моей библиотеки, почти двумя тысячами томов. Моя жена, не колеблясь, продала свои бриллианты.
Нас приютила мать моей жены, Констанс Элис Эллиот, величественная старая дама, праправнучка сэра Элиджа Импэя, первого министра юстиции Индии. Ее муж, по странному совпадению, был праправнуком первого лорда Минто, который, будучи еще сэром Гилбертом Эллиотом вел дело об импичменте Импэя и Уоррена Гастингса. Миссис Эллиот обладала всем величием и мужеством англо-индийского общества, к которому принадлежала. Маленького роста, но великолепно сложенная, она все еще оставалась красивой. Ее прямая осанка напоминала, что в свое время она считалась лучшей женщиной-наездницей Индии.
Отец моей жены умер еще до первой мировой войны, и миссис Эллиот жила в маленьком доме в Барон-Корт. Она чрезвычайно интересовалась делами Лондонского совета графств, в который ее трижды избирали от Северного Св. Панкраса. Ко мне она благоволила, так что мы с женой отправились в Барон-Корт и заняли комнату в ее доме.
Я должен был примириться с ликвидацией компании и начинал понемногу подрабатывать переводами с турецкого и греческого для одного агентства, как вдруг сама собой возникла неожиданная возможность. Одной из инженерных фирм, сотрудничавших с нами в подготовке грандиозного плана развития для Веви, была фирма «X. Толлемах и компания», специализировавшаяся на оборудовании по измельчению угля. Ее управляющий директор командир Хамфрэй Толлемах был очень любезен, но мы встречались всего два или три раза, поэтому я был удивлен, получив приглашение на ланч. Он посочувствовал нашей совершенно незаслуженной неудаче и, предположив, что я остался на мели, предложил мне работу инженера-оценщика в его компании. В денежном выражении это было меньше десятой доли того, что я получал как управляющий директор Эгейского Треста три года назад, и четверть моего заработка в Греческой горнодобывающей компании. Но это была работа и возможность попробовать себя в новом качестве, а именно в качестве скромного служащего без какого-либо авторитета или свободы действий. Жена была уверена, что мы проживем на предлагаемую скромную сумму. Я согласился и на следующей неделе приступил к работе. Было 9 сентября 1931 года, та самая неделя, когда Успенские переезжали из Семи Дубов в Гадсден.
Работа была для меня новой, и я находил ее интересной и волнующей. После того, как я несколько лет носился с тенью чудесного плана, я получал огромное удовлетворение от работы со схемами, которые реализовывались. Когда я подписал свой первый контракт и начал работать, я понял, как истосковался по реальным достижениям. Моя роль не была ни важной, ни решающей. Я был всего лишь оценщиком, но видел, как мои вычисления проверяются, оборудование, выбранное мной, покупается и устанавливается на производстве.
В этой работе был и еще один элемент, болезненный, но очень благотворный. Я всегда знал, что склонен к неаккуратности, но теперь мои ошибки возвращались ко мне моментально. Когда мне впервые устроили нагоняй за мою небрежность, я узнал, какие уроки может преподать каждодневная жизнь – с ними не справится ни одна эзотерическая школа. Я писал: «Взгляни на себя глазами, которые не любят». Наши глаза никогда не свободны от конфликта между любовью к себе и ненавистью к себе, поэтому, если мы хотим взглянуть на себя со стороны, нам требуются другие глаза.
В 1933 году мне представилась возможность самому выполнить некоторые исследования. Толлемах был дружен с президентом Объединенной Стальной Компании, которому и предложил очищать уголь от пыли, прежде чем его отмывать, и использовать пыль для работы котельных. Нужно было как-то оценить это предложение, тут выяснилось, что никто не знает, сколько пыли содержит уголь. Я взялся провести исследования и провел несколько недель в каменноугольной копи. Мое сообщение имело успех, более того, я обнаружил, что количество пыли в угле можно предсказать по распределению наиболее крупных размеров. Это положило начало моему интересу к распределению размеров раздробленных на частицы материалов, который в течение ближайших десяти лет принес результаты, позволяющие мне называть себя ученым-промышленником.
Изучая размеры частиц угольной пыли, я пришел к выводу, что отсортированные по размеру частицы, применяемые в литейных цехах, защищают литейную форму более эффективно, чем неотсортированные. Когда я испытал это предположение, оно полностью оправдалось. В это время компания Толлемахера начала производство измельченного угля в Гриметорпской каменноугольной копи в Йоркшире. Мы собрали пыль в бумажные сумки и разослали их в котельные. Чтобы стимулировать бизнес, я вызвался поехать по стране в качестве продавца.
Эксперимент был очень показателен. Агитировать делать заказы оказалось для меня ужасно неприятным. Продавцы рассказывали мне об удовольствии, которое они получают от своей работы. Я же невыносимо страдал. Даже когда мне попадались хорошие заказчики, я боялся, что упущу их или наобещаю больше того, что мы могли выполнить. Я настолько стеснялся, что каждый свой визит воспринимал как подвиг со своей стороны, несмотря на это я бы ни на что не променял те месяцы, когда я колесил по промышленной Англии, продавая угольную пыль. Они показали мне, насколько ограниченны мои возможности. Этот опыт теснейшим образом связал мою внутреннюю и вешнюю жизнь.
Весь 1933 год я переживал свою неспособность достичь позитивных результатов в своей работе с Успенским. Я упорно влипал в неприятности, а основная задача Успенского, казалось, была научить меня благоразумию. Стоило мне услышать о чем-нибудь интересном и ценном для меня, я сразу же
хотел любой ценой рассказать об этом остальным. Зачастую цена оказывалась не очень приятной. Так, неделя за неделей и месяц за месяцем я боролся, иногда с надеждой, чаще в отчаянии.
В августе 1933 года, когда я опять собирался с группой в Шорхэм, за мной послала мадам Успенская и в разговоре сказала следующее: «Сейчас Вы отправляетесь со своей группой. Попытайтесь быть самим собой. Зачем Вы во всем подражаете Успенскому? Вы копируете даже его ошибки в английском. Зачем? У Вас свой метод работы. Вы никогда не преуспеете, подражая другим. Помните, что сказано в БхагаватТите, о чем я попросила Вас прочесть сегодня после обеда». То был тридцать пятый стих третьей Адхвавы:
«Лучше собственный путь – дхарма – если даже он немногого стоит, чем чужой, даже совершенный. Чужой путь полон опасностей: спасение приходит идущему своей дорогой».
Я сказал, что не могу доверять себе и боюсь сказать неверную вещь. Она возразила: «Конечно, Вы не можете доверять себе; но и кому бы то ни было Вы также не можете доверять. Есть только один способ узнать, чему в себе Вы можете довериться, и этот способ состоит в действовании согласно собственным побуждениям. Подражая другим, Вы ничего не узнаете о себе и никогда не станете сильнее. У Вас есть возможность сделать для Работы много ценного, но для этого Вы должны подготовиться и накопить свой собственный опыт».
Я отправился в Шорхем, до глубины души тронутый этим разговором, поскольку за несколько дней до него я объявил собранию директоров Греческой Горнодобывающей Компании, что мы не сможем заплатить наши долги и компанию придется ликвидировать. Один из директоров, для которого ничего не значили потерянные деньги, ужасно разозлился и обвинил меня в том, что я вселил в них ложные надежды. Зная, что никогда специально не вводил в заблуждение своих коллег, я все же почувствовал себя виноватым. Мне казалось, я мог бы лучше вести дела.
Придя домой, я рассказал жене о разговоре с мадам Успенской. Она печально усмехнулась и заметила: «То же самое я снова и снова повторяла уже много раз. Почему ты слушаешь всех, кроме меня? Ты знаешь, что я люблю тебя и верю в тебя больше, чем кто бы то ни было. Почему бы тебе не доверять мне больше?»
Мы по-настоящему любили друг друга и были счастливы только в обществе друг друга. Мы могли разделить практически все, и оба очень заботились о той работе, которую я вел в группе с учениками. Но, несмотря на это, я никогда ее не слушал. Я пытался понять, почему. В моем дневнике написано, что я был крайне нечувствителен и несносен по отношению к тем, кому на самом деле было до меня дело, и очень внимателен к людям, которые меня недолюбливали. Но это упрощение. В действительности я находился в состоянии войны с самим собой, был так опустошен и огорчен из за ощущения своей несостоятельности, что всякий, кто доверял мне или хорошо обо мне отзывался, казался мне введенным в заблуждение или сознательно закрывшим глаза на мои недостатки. Во время нашего пребывания в Шорхеме я должен был по делам возвращаться в Лондон, по пути я заехал в Лайн повидаться с Успенским. Тогда у него был обычай сидеть полночи и пить кларет, вспоминая ранние годы своей жизни в России еще до встречи с Гурджиевым в 1915 году.
В ту ночь мы пили вдвоем. К концу ночи четыре или пять бутылок были пусты. Я говорил, выражая свое мнение по какому-то важному вопросу, – но я начисто забыл, по какому именно. Но пока я говорил, я как бы вышел за пределы себя, слышал свой голос и даже следил за своими мыслями, как если бы это был не я. Я представлялся сам себе совершенно искусственным: ни мысли, ни слова не были моими собственными. «Я» – кем бы в тот момент это «Я» не было – был совершенно безучастным зрителем какого-то представления.
Внезапно я вновь оказался внутри себя. Я сказал Успенскому: «Теперь я понял, что на самом деле означает самовоспоминание. Все эти годы я не видел настоящего Беннетта, до этого самого момента». Он ответил совершенно серьезно: «Значит, Вы с пользой просидели так всю ночь?» Я сказал: «Да, конечно, и просижу еще двадцать ночей, если понадобится». Он продолжал: «Если Вамудастся запомнить то, что Вы сейчас видели, Вы будете способны работать. Но поймите, что никто не в состоянии помочь Вам в этом. Если Вы сами не увидите, никто не сможет показать Вам».
Вскоре он пошел спать, а я сел в машину и с восходом солнца отправился в Шорхем. Восхитительная красота летнего утра наполнили меня радостью, которую я редко испытывал прежде. Но я знал даже тогда, что потеряю все то, что только что приобрел. Я забуду и еще долго не вспомню, кто и что значил этот «Беннетт», чья жизнь каким-то образом произрастала из моей настоящей жизни. Я знал все это с каким-то спокойным отрешением, и радость видения реальности – хотя бы на час – ничем не омрачалась. Я смотрел на ласточек, порхающих над утренним полем, и говорил себе: «Только видение не делает человека сознательным». Как бы то ни было, на этом семинаре я продвинулся дальше, чем ранее, в достижении единства с теми, с кем я работал.
Глава 15
Вновь на волосок от смерти
Первого октября 1933 года завершилась та тысяча дней, в течение которых я обязался вести дневник. Помимо того, что выполнить это обязательство оказалось в моих силах, это постоянно напоминало мне о моем нестабильном внутреннем состоянии. Следующие два или три года упражнение постоянного повторения Иисусовой молитвы стало ведущим в моей внутренней жизни. Иногда я вел счет и оказывалось, что я повторяю ее от трех-четырех сотен раз в день до тысячи и более. В ней была и моя единственная надежда, и великое утешение.
Мы с женой тогда нашли небольшую постоянную квартиру в Бэйсуотер и жили там очень счастливо и очень скромно. Но в начале 1934 года у меня вновь появились признаки туберкулеза. Шестого марта я написал: «Я оказался лицом к лицу с проблемой здоровья. По крайней мере месяц мне придется провести в постели». Я чувствовал огромный упадок сил, работа у Толлемаха стала тяжелым бременем. Я совсем исхудал, и моя не на шутку встревоженная жена настояла, чтобы я обратился к врачу.
Хороший друг группы Успенского, доктор Фрэнсис Ролле, был признанным авторитетом в лечении туберкулеза. Он обнаружил у меня активный туберкулезный очаг в левом легком. Он полагал, что я поправлюсь, если в течение трех месяцев буду совершенно спокоен и ни разу не собьюсь с дыхания. Мало в этом преуспев, я бьи вынужден отправиться в санаторий в Швейцарию. Толлемах дал мне трехмесячный оплачиваемый отпуск, и я с обычной своей настойчивостью поставил перед собой задачу оставаться совершенно бездеятельным. Бездеятельность была для меня новым опытом. Всю жизнь я куда-то себя гнал, особенно после разговора с Гурджиевым в Prieure в июле 1923 года. Мне было не понятно, как это – ничего не делать, в особенности не читать и не думать, что было мне категорически запрещено. У нас был задний дворик с маленькой лужайкой и каменистым садиком. Целыми днями я лежал там на матрасе, возясь с крошечными альпийскими растениями. Мне это очень нравилось, и время летело незаметно.
К концу лета я поправился настолько, что Ролле посоветовал мне вернуться к моей обычной деятельности. Единственному необычному лечению я подвергся по совету Успенского. Дважды в день я выпивал экстракт алоэ, свежие листья которого нам присылал приятель из Южной Африки. Во время моей болезни Успенский проявлял крайнюю заботу обо мне. Не знаю, алоэ или отдых привели к столь быстрому выздоровлению. Сам я думаю, что болезнь была частью процесса умирания и возрождения, начавшегося в 1929 году.
Вернувшись к работе, я полностью погрузился в проблему потери угля в Англии из-за низкой эффективности его использования. До 1914 года об эффективности никто не задумывался благодаря его дешевизне и обилию. Работа, которую я проводил для Толлемаха, показывала, сколько можно сэкономить денег, сжигая измельченный в пудру уголь, а не его большие куски. Я познакомился с производителями других приспособлений для сжигания угля и предложил объединиться производителям в деле обучения промышленных и бытовых потребителей более рациональному использованию наших истощающихся угольных запасов.
В то время перед угольной промышленностью все с большей остротой вставала проблема улучшения рынков сбыта для угля, который был значительно потеснен газом, электричеством и нефтью. Был создан Совет по утилизации угля, финансируемый производителями и распространителями угля. Вскоре стало понятно, что Совет нуждается в сотрудничестве с производителями оборудования. Я обрел союзника в Кеннете Гордоне, первом директоре Совета, который подвигнул меня принять активное участие в формировании Ассоциации производителей приспособлений для сжигания угля. К 1934 году Ассоциация приобрела такой размах, что мне предложили оставить мою работу и стать ее первым директором. Так начиналась очередная фаза моей жизни, затянувшая на 16 лет, в течение которых мои внешние интересы были поглощены исследованиями более рациональной утилизации угля.
Сжигания угля для получения тепла, механической и электрической энергии было и остается основой индустриальной деятельности мира. Я был потрясен, обнаружив, как мало научных исследований касалось этого жизненно важного процесс’а. Задолго до открытия угля, решающим фактором, позволяющим людям пережить суровую зиму в таком климате, как наш, были дрова, горящие в открытом огоне. Уголь, сжигаемый таким же образом, не только тратится впустую, но и способствует загрязнению городов. Несмотря на это, со времен графа Ромфорда, было сделано крайне мало для повышения эффективности и чистоты сжигания угля. Я был убежден, что научные изыскания в этом направлении будут успешными.
Услышав о моих идеях, Гордон преисполнился энтузиазмом и пообещал финансовую поддержку от Совета по утилизации угля. Угольные владельцы вначале отнеслись к делу скептически, но когда я встретился с сэром Робертом Барроусом, тогдашним президентом Ланкаширских Угольных Владельцев, он велел мне идти вперед и пообещал тысячу фунтов для организации исследовательского отделения Ассоциации производителей приспособлений для сжигания угля. Мы начали с очень скромной задней комнатки в нашей конторе на Виктория-стрит. Первый небольшой успех в разработке устройства для уменьшения дыма вывел нас на прямую дорогу. Сэр Эван Вильяме, президент Горнодобывающей Ассоциации Великобритании, человек с энтузиазмом уроженца Уэльса, попросил меня представить план работы угольным владельцам.
Тогдашним президентом Совещательного Совета по научным и индустриальным исследованиям был лорд Резерфорд, один из величайших ученых-экспериментаторов. На встрече с ним я говорил о чудовищных потерях, которые мы несем в одном из наших важнейших природных ресурсов. Он тут же увидел большую важность работы над прибором, обрабатывающим уголь, чем над выяснениями возможностей угля, над которыми работали большинство ученых до этого времени. Он согласился выступить в качестве почетного гостя на завтраке, ежегодно устраиваемом Ассоциацией производителей приспособлений для сжигания угля, куда приглашались ведущие угледобытчики и ученые. Его речь прозвучала столь убедительно, что несколько владельцев угольных компаний решили отчислять определенную сумму с каждой добытой тонны на научные исследования, и правительство также вносило свою лепту. Из маленького исследовательского отделения, борющегося за право существования, мы превратились в Британскую научно-исследовательскую ассоциацию утилизации угля, директором которой я был назначен. Одним махом мы стали второй по величине научно-промышленной ассоциацией в стране. Меня поздравляли с «пробуждением научного осознания в угледобытчиках», но истина состояла в том, что события развивались сами по себе. Некоторые крупные угольные компании, такие как, Powell Daffiyn и United Steel, уже втихомолку проводили исследования. Я же только прочистил то русло, по которому поток исследований потек в искреннем объединении владельцев угольных месторождений, продавцов угля и производителей оборудования по сжиганию угля.
Все было таким новым, волнующим, и, работая, я был счастлив. Лорд Резерфорд, бывший не только председателем Совещательного Совета, но и Кембриджским профессором, помог мне как в идеях, так и в наборе персонала прямо из Университета. Мне еще раз повезло: я познакомился с Дж. С. Хэйльсом, гением в практическом воплощении эксперимента. Он взял на себя задачу изучения угольного огня, увеличения его эффективности и снижения дымности. Результатом этих передовых исследований стали распространенные и сейчас во всей Англии новые конверторные плиты для угля и кокса, имеющиеся на рынке в бесчисленных вариантах размеров и форм. Эффективность горения угля повысилась на тридцать – сорок процентов благодаря работе Хэйльса.
На пике собственных исследований физических свойств угля мне предложили вступить в Клуб Угольных Исследований. Это была небольшая группа ученых, включая двух замечательных женщин, доктора Марию Стопе и доктора Маргарет Фишенден. Клуб был создан по инициативе докторов Лессинга, Вилера и Синната – все трое страстно увлеченные загадками химической природы угля. Мое избрание было признанием не меньшей загадочности его физической природы. Профессор Вилер был одним из немногих, кто без воодушевления отнесся к организации научно-исследовательской ассоциации, мотивируя свое недоверие тем, что угольные исследования себя исчерпали. Он был ярким, но разочарованным человеком. Я никогда не оставлял своим вниманием Клуб Угольных Исследований, несмотря на некоторую узость их взглядов, к сожалению, весьма распространенную в среде ученых. Заметное исключение представлял доктор Кларенс Сейлер, основатель Угольной Систематики, недавно умерший в возрасте девяноста двух лет. Его интересы простирались так же широко, как и мои, и вскоре мы стали близкими друзьями.
В период между 1936 годом и началом второй мировой войны изменились мои отношения с Успенским. Хотя я был постоянным гостем в его большом доме в Лайне, недалеко от озера Виржиния, он перестал дарить меня своим доверием. Но с мадам Успенской все осталось по-прежнему, и все эти годы я получал от нее безграничную помощь. Она убедила Успенского позволить выбранной группе изучать гурджиевские упражнения под руководством одного из его бывших учеников. Мне разрешили присоединиться к занятиям и возобновить работу, представлявшую для меня большую ценность в Prieure четырнадцатью годами ранее. Начавшись в октябре 1937 года, занятия продолжались около двух лет.
Эта возможность означала отсутствие дома в течение двух вечеров в неделю, один-два вечера занимали семинары Успенского, а каждое воскресенье я отправлялся в Лайн, так что моя жена оставалась совсем одна. Я поговорил с мадам Успенской, и она уверила меня, что жене в Лайне будут рады, и мы начали ездить туда и работать вместе.
Несмотря на это, жена стала изводить себя мыслями о том, что она стоит на моем пути. Несколько раз она пыталась уйти от меня под предлогом того, что я должен иметь молодую жену и детей. Я не воспринимал это всерьез, поскольку не сомневался, что мы останемся вместе вплоть до конца ее жизни. Быть с ней доставляло мне величайшее счастье, и, уверен, она разделяла мои чувства.
Я так и не смог понять того, что происходит в женском уме. Для меня реальностью было ощущение собственной несостоятельности перед лицом внутренних проблем. Когда жена говорила о своем ощущении несостоятельности, для меня это звучало нелепо. Она не была несостоятельной, и я полагал, что нужно только сказать ей об этом, и я пытался изо всех сил вернуть ей мужество. Я совершенно не понимал, что ее беспокойство не имело ничего общего с логической стороной нашего положения. Как-то раз она сказала мне: «С тобой я прожила чудесную жизнь. Мы встретились почти двадцать лет назад, и с тех пор я всегда была уверена, что ты найдешь свой путь и выполнишь великую задачу. Сейчас ты находишься на пути к успеху. Я больше тебе не понадоблюсь. Больше всего на свете тебя заботит работа с Успенским. Но для меня там нет места: они действительно во мне не нуждаются и не хотят меня видеть. Не хочу, чтобы меня приглашали только потому, что я твоя жена. Будет гораздо лучше, если я исчезну навсегда».
Мы несколько раз вели подобные беседы, и каждый раз я оставался в полной уверенности, что переубедил и успокоил ее. Как и многие другие мужчины, я полагал, что она беспокоится насчет других женщин, и чувствовал, что она должна знать, что она – единственная женщина, с которой я могу разделить свою жизнь настолько, насколько я могу ее разделить с другим человеческим существом. Ни на минуту я не подумал, что она говорит серьезно, и действительно чувствовала, что ей пришло время уйти из моей жизни. Только теперь, оглядываясь назад на двадцать лет, я понимаю, насколько чудовищно невнимателен я был к людям, особенно к женщинам. Когда моя жена сказала, что заботится о моем благополучии больше, чем о своей жизни, я принял это за выражение чувств, а не за факт. Поэтому я был полностью не подготовлен к тому, что случилось.
Тогда мы жили в Бэйсуотере. Двадцать четвертого января 1937 года я, как обычно, направился в свой офис на Виктория-стрит. Не знаю отчего, я беспокоился и позвонил домой около четырех часов пополудни. Не получив ответа, я встревожился и сразу же отправился домой. Войдя, я крикнул: «Полли, где ты?» Мне никто не ответил. Я бросился в спальню и нашел ее распростертой на кровати и тяжело дышащей. Увидев пустой пузырек из-под снотворных таблеток, я понял, в чем дело. Я выбежал из дома, нашел такси и отвез ее прямо в госпиталь Св. Марии.
Дежурный врач доктор Смитер сразу же пришел и, едва взглянув на нее, забрал ее в палату и велел мне подождать. По счастливой случайности Смитер как раз занимался исследованиями воздействия барбитуратов на нервную систему под руководством известного невропатолога. Это позволило ему предпринять очень рискованные меры. Он вышел и сказал: «Она умирает. Я сделаю ей спинномозговую пункцию, чтобы понизить давление. Лучше подождите».
Только тогда я вновь смог собраться с мыслями. Я осознал, насколько я игнорировал все ее душевные страдания. Только я был виноват в том, что она решилась на такой отчаянный шаг. Было совершенно немыслимо, чтобы мы, столь глубоко любившие друг друга и столь близкие друг другу, не смогли друг друга понять. Как только она вообразила, что я смогу жить без нее? Как только я вообразил, что, говоря, что пришло ее время уйти, она говорила несерьезно?
В 11 вечера мне разрешили войти в палату. Она была в глубокой коме. Я сел рядом и взял ее руку. Доктор Смитер сказал: «Если она шевельнется, поговорите с ней и попытайтесь поднять ее». Я сидел рядом и говорил с ней все время, уверяя, как она нужна мне, звал ее, просил вернуться ко мне. Часы шли, но никаких изменений не было. Ее дыхание слабело, а я почти ударился в панику.
Следующий день и всю ночь, и еще день я сидел рядом с ней, говоря и зовя ее. Я был убежден, что она знает, что я здесь, но никак не дает об этом знать.
Наконец через три дня и три ночи она открыла глаза и взглянула на меня. Она произнесла: «Ты» или «Да», не помню точно, закрыла глаза и уснула нормальным сном. Доктор Смитер, применивший все свои знания для ее спасения, пришел и велел мне пойти отдохнуть. Я почти не отходил от ее постели в течение трех дней и уже не знал, сплю я или бодрствую. Силы медленно возвращались к ней. Проснувшись на следующий день, она сказала: «Я видела чудо. Я покинула свое тело и оказалась в месте, где я слышала небесную музыку. Она была непохожа ни на одну музыку в мире. Я знала, что рядом Иисус. Я была уверена в Его присутствии, хотя видеть Его не могла. Я хотела остаться. Тут я услышала твой зов. Я просила тебя замолчать, но ты не слышал. Ты звал меня вернуться обратно в свое тело. Я не хотела, но твое желание было слишком сильно. Я не могла оставаться вне своего тела. Вернувшись, я слышала твой голос, но не видела тебя. Затем все покрылось мраком, а когда я вновь очнулась, я вновь была в своем теле, а вокруг было голубое сияние. Я чувствовала себя умиротворенной, но Иисуса больше не было. Тогда я поняла, что вернулась и должна жить дальше. Но я все равно радовалась, потому что поняла, что я действительно нужна тебе». После долгого молчания она добавила: «Ты не должен говорить никому об этом до моей смерти. Возможно, я расскажу обо всем мсье Успенскому,- но я должна подождать».
Успенский был в курсе дела, хотя для всех передозировка оставалась всего лишь несчастным случаем. Каждый день он справлялся о ее здоровье и просил о встрече с моей женой, как только это станет возможным. Когда наконец я привез ее в Лайн, она долго говорила с Успенским с глазу на глаз. Потом она рассказала мне, что он заявил: «Знаю, с Вами произошло нечто важное. Не расскажете об этом?» Она ответила, что собирается подождать год и, если все еще будет убеждена в реальности ее опыта, она расскажет о нем. Он смирился с ее решением. С того времени он уделял ей больше внимание, и она стала желанным гостем в Лайне.
Она взялась за шитье стеганных одеял и покрывал для мадам Успенской и работала над ними все свое свободное время в течение нескольких месяцев. Я был счастлив наблюдать, как между этими двумя женщинами, вызывавшими мое наибольшее восхищение, возникала истинная дружба. Они были почти одного возраста и, возможно, обладали одинаково сильными характерами, потому так долго избегали друг друга.
После пережитого жена сильно изменилась. Она приобрела некоторую отрешенность, которой я никогда не замечал в ней раньше. Я не хочу сказать, что исчез ее энтузиазм и радость жизни. Напротив, мы были гораздо счастливее, чем прежде, по крайней мере у нее больше не возникало ощущение собственной бесполезности.
В 1938 году умерла моя первая жена Эвелин. Восемнадцать лет я не видел свою дочь. После смерти ее матери я попросил разрешение увидеть дочь, тогда ее бабка пригласила меня к ним в Уимблдон. Друг для друга мы оставались совершенно чужими. Я не мог найти с ней общий язык, но чувствовал огромное напряжение и благодарность за то, что могу вновь быть с ней. В течение всех предшествующих лет я никогда не нарушал своего обещания не предпринимать попыток увидеть ее или каким-то образом повлиять на ее жизнь. Теперь я понимал, что это решение было крайне бесчувственным и искусственным. Ее мать была очень благородным человеком и никогда бы не пожелала, чтобы отец оставался в стороне. Здесь я вновь столкнулся со своим непониманием женщин.
Не понимая людей, я умел заинтересовывать их и убеждать в правоте собственных взглядов. В предвоенные годы моя внешняя жизнь пошла в гору. Я был вовлечен в деятельность, подходящую моему типу и темпераменту: создавать нечто новое и проталкивать его в жизнь. Дни были до отказа заполнены работой, и все же я считал, что все, что я делаю в науке и промышленности, является частью моей работы с Успенским.
Мое глубокое убеждение в том, что невидимый мир даже более реален, чем видимый, еще усилилось тем, что испытала моя жена. Но так как она отказывалась говорить об этом, я выбросил все из головы. Неожиданно от Успенского пришло письмо с напоминанием о том, что прошел год, и с просьбой о встрече. Она отправилась в Лайн и долго с ним говорила. Вернувшись домой, она заплакала и сказала: «Мне его очень жаль. Я не догадывалась, как он страдает. Когда я закончила свой рассказ, он почти плакал и говорил, что с юных лет ждал подтверждения реальности другого мира, но оно никогда не приходило». Затем она заговорила о том, что почувствовала себя его матерью и посоветовала перестать гордиться собственной силой. Она добавила: «Это великий человек, и я всегда уважала его, но теперь я впервые в жизни чувствую по отношению к нему теплоту. Но мне очень его жаль, поскольку я не верю, что он когда-нибудь найдет то, что ищет. Ко мне это пришло только потому, что я хотела умереть. Он понял меня, но мне все же очень жаль, потому что он очень одинок». Когда она уходила, он сказал: «Я слишком долго Вами пренебрегал, но теперь Вы должны чаще навещать меня».
Она была глубоко взволнованна, и я счел это результатом ее разговора с Успенским. Некоторое время она помолчала, я ждал. Наконец она заговорила: «В моем опыте было нечто большее, чем то, что я рассказала тебе. Это касается тебя и твоего будущего, но я знаю, что пока не должна тебе ничего говорить. Суть в том, что я не знаю, как тебе сказать, потому что ты все равно мне не поверишь». Я заверил ее, что поверю всему, что она скажет, но она печально возразила: «Да, ты поверишь тому, что касается меня, но не поверишь тому, что я могу рассказать о тебе. Если я когда-нибудь смогу говорить с тобой, то скажу, но не теперь».
Эти события имели глубокое влияние на мою внутреннюю жизнь. Я понял, что почти двадцать лет учился только своим разумом, а внутренней чувствительности у меня все так же было мало. Казалось, это открытие станет поворотным пунктом в моей жизни. Но я не был готов. Еще много лет я руководствовался собственным тупым умствованием.
Весной 1939 года Успенский однажды заговорил с нами о своей постепенно гаснущей надежде связаться с источником Гурджиевских идей. Повинуясь внезапному порыву, я написал Башу Шелеби, потомственному главе мевлевского дервишского ордена, жившего в изгнании в Алеппо. Я получил теплый ответ и приглашение навестить его. Узнав об этом, Успенский пришел в восторг. Он взял у меня письмо и показывал его всем, живущим в Лайне. Мы с женой начали приготовления для отъезда на месяц в Сирию весной 1940 года. Нас остановила разразившаяся война.
Тем временем в Ассоциации все шло своим чередом. Мы уже были готовы запустить новые лаборатории в Фульхэме, как тут началась война. Третьего сентября 1939 года мы с женой на пути к южному побережью остановившись для заправки, услышали радиообращение Чемберлена,. Мы собирались несколько дней отдохнуть и навестить мою дочь, живущую с бабушкой в Богноре. Я вернулся в Лондон, готовый к серьезным переменам, в частности, к потере почти всего моего персонала. Вместо этого, правительство поставило нас в известность, что, ввиду нашей оборонной значимости, никто из персонала в армию призван не будет. Я быстро разработал новую программу исследований, направленных на передвижение военных машин с использованием коксового газа, на случай, если подводные лодки противника отрежут нас от нефтяных источников.
В ожидании выяснения нашей военной задачи я был занят намного меньше, чем в последние несколько лет. Мои мысли вновь вернулись к пятому измерению и к проблеме математического выражения моего интуитивного представления о Вечности. Вместе с этим возникла острая потребность описать гурджиевскую Систему и соотнести ее с последними открытиями науки и палеонтологии.
Все, за что я ни брался в 1940, удавалось. Мы с женой переехали на Тайт-стрит в Челси и сняли большую студию. Жена привела ее в очень комфортабельное состояние, и мы жили там такой жизнью, которая раньше мне никогда не нравилась. По воскресеньям мы вдвоем отправлялись в Лайн. Многие из нашей группы также работали там. Между моей работой в Британской научно-исследовательской ассоциации утилизации угля и занятиями у Успенского установилось естественное равновесие; и я хотя бы не гнал себя так бессмысленно неизвестно куда, как в предшествующие годы. Несмотря на войну и налеты, мы переживали один из счастливейших периодов нашей семейной жизни.
Четвертого января 1941 года мадам Успенская отправилась в Америку. Моя жена была одной из немногих, провожавших ее. Вернувшись со станции, она так отозвалась о своих спутниках: «Они чересчур зависимы. Что пользы работать над собой десять, пятнадцать, двадцать лет и оставаться зависимым, пусть даже от мосье и мадам Успенских? И с тобой может случится то же самое, но у тебя уж точно нет никакого права быть настолько пассивным. Ты можешь и должен отвечать за свою собственную работу».
Спустя две недели я узнал, что Успенский последует за своей женой в Америку. Он был уверен, что немцы выиграют войну, и эта победа будет прелюдией революции. Он говорил нам, что коммунизм распространится по всей Европе, и единственная надежда, что это не коснется Америки. Придя к нему попрощаться, я задал три вопроса. Первый: «Почему я так медленно двигаюсь вперед: из-за недостатка настойчивости, или из-за неверных усилий, или потому, что существуют знания и техники необходимые, но пока нам неизвестные?» Он ответил так, как я и ожидал: «Техники здесь не причем. Беда в том, что вся Ваша работа состоит их фальстартов. А можно ли рассчитывать на продвижение вперед, все время возвращаясь на стартовые позиции?» Тогда я спросил: «Могу ли я продолжать общаться с Вашей местной группой?» Он не стал распространяться о своих планах. «Работа в Лайне будет продолжаться. Все остальные группы будут распущены. Я дал указания продолжать работу в Лайне, пока это будет возможно. Вы с женой, конечно, можете поддерживать связь с остающимися здесь». Тогда я задал третий вопрос, уже многие месяцы не дававший мне покоя: «Есть ли у Вас какие-либо возражения против того, чтобы я описал Систему в том виде, в котором я ее помню?» «Системой» мы называли учение и методы, преподанные нам Гурджиевым или через Успенского. Его ответ был разочаровывающим: «Я не считаю описание полезным. Лучше повторять ее мысленно. В любом случае, систему нельзя описать в привычном виде. Если Вы попытаетесь, то убедитесь, что это невозможно”.
Он добавил, что в настоящее время не собирается публиковать описание Системы, хотя позднее, возможно, изменит свое мнение.
Двадцать девятого января 1941 году Успенский отправился в Соединенные Штаты. Больше я никогда его не видел. Еще до его отъезда я принял решение о независимой работе. В дневнике сохранилась запись: «Это не разрыв и не уменьшение моего уважения и огромной благодарности по отношению к нему. Он научил меня всему, контакт с ним и его работой дал мне наивысшую возможность увидеть собственные слабость и глупость».
У меня было тридцать или сорок учеников, которые хотели продолжать обучение и работу в соответствии с Системой. Мы регулярно встречались, несмотря на жесточайшие воздушные атаки на Лондон. Жизнь становилась крайне опасной. Было объявлено о гибели моей жены, и она пережила необычный опыт чтения собственного некролога в Daily Telegraph. Ее двоюродный брат, фельдмаршал лорд Бердвуд,, пригласил меня на ланч с турецким послом в Лондоне, и внезапно возникла возможность моего отправления со специальной миссией в Турцию. Я припомнил свою переписку с Ваш Шелеби и прикидывал, смогу ли посетить Алеппо. План рухнул, а вместо меня в Турцию отправился сэр Денисон Росс.
В это время постоянное повторение Иисусовой молитвы, которое я практиковал уже в течение семи лет, принесло непредвиденный результат: ни больше ни меньше, как полностью лишило меня страха смерти. Нам часто приходилось бывать на волоске от смерти, но все время, пока я повторял Иисусову молитву, я ощущал как бы иммунитет от смерти. Я не считал, что смерть не имеет значения, но считал, что умру не здесь и не сейчас. Как бы там ни было, но бомбежки стали угрожать нашим лабораториям. Однажды бомба попала на кладбище, расположенное неподалеку, и большой могильный камень, взлетев в воздух, падая, пробил нам крышу. Поутру мы нашли его в окружении разбитых приборов.
Мы находились в зоне бомбежки, поэтому решили вывезти лаборатории из Лондона. Правительство приказало освободить для нас подходящее помещение по нашему усмотрению. Несмотря на опасности и неудобства, время это было счастливое. Десятого апреля мы с женой отправились на неделю в Малверн Хиллс на отдых. Никогда мы не были более счастливы и близки. Я писал: «Это была неделя почти совершенного счастья, максимально возможного для меня, пока я полностью не изменился». На следующий день по возвращении в Лондон Тайт-стрит была полностью разрушена прямым попаданием бомбы, и мы оказались в окружении обломков домов. Но сами остались целы. Мы с женой разделяли убеждение, которое проистекало из нашего предшествующего опыта, а именно, что разрушение физического тела не является бедствием для души.
Хотя наша квартира избежала полного разрушения, оставаться там не представлялось возможным. Мы с женой переехали в небольшой домик рядом с лабораториями. Воздушные бомбардировки Лондона были в самом разгаре. В наше убежище приходили соседи. Этот район – трущобы в полном смысле этого слова – населяли отпетые преступники и проститутки, жившие в невероятной неразберихе со своими чудесными детишками. Нескольких девчонок и мальчишек мы взяли на работу в лабораторию. Жена стала библиотекарем и наслаждалась своей работой, обучая своих маленьких помощников.
Мы остро нуждались в новом месте для жизни и работы, и все свободное время я посвящал поискам дома в пригородах Лондона, которые, по нашему мнению, находились в стороне от главных мишеней немецких бомбардировщиков.
Глава 16
Кумб Спрингс
Меня притягивали Кингстонские холмы. Я осмотрел несколько больших домов, свободных по случаю войны, но не один не подходил. В субботу, 5 мая 1941, года мне позвонил агент по продаже недвижимости и сообщил, что ему только что предложили для сдачи в аренду большой дом с семью акрами земли на время войны. Мы с женой сели в машину и поехали в Кумб Спрингс. Мы въехали через красивые, но ржавые железные ворота, подъехали к дому, откуда открывался вид на Кумб Лэйн, главную автомобильную магистраль между Кингстоном и Уимблдоном. Дом был в крайне запущенном состоянии, весь пропахший кошками и собаками. Семь свирепых собачонок китайских кровей и двадцать две кошки оспаривали право владения земляным полом. Чтобы животные не перегрызли друг другу глотки, дом поделили на две части.
Миссис Хвфа Уильяме была почти полностью глухой. Нам никак не удавалось с ней договориться. Она была не в состоянии, или не хотела назвать нам имя своего поверенного, с которым мы могли бы обсудить условия аренды. Она настойчиво рассказывала нам о былых славных временах Кумб Спрингс, тех золотых днях, когда король Эдуард VII и его друзья часто проводили здесь выходные. Она показывала нам книгу посетителей, в которой были имена королей и европейской знати вперемешку с королевской челядью. Когда-то ее муж владел отелем «Кларидж» и был знаменитым держателем скаковых лошадей. После его смерти она потеряла все его игровые дома в Монте-Карло и жила одна с горничной-итальянкой.
Мы вышли осмотреть прилегающие к дому земли и едва смогли пробраться через густые заросли ежевики и чертополоха. В розарий упала небольшая бомба, и все зеленые бутоны были брошены на произвол судьбы. Все это вместе взятое должно было бы произвести на нас неблагоприятное впечатление, но, напротив, мы пришли в восхищение безо всякого на то основания. И моя жена, и я были убеждены, что будем здесь жить и что это место станет большим центром духовной жизни.
В тот вечер я записал в дневнике: «Сегодня мы осмотрели Кумб Спрингс. Сердце подсказывает мне, что именно на нем мы должны остановиться. Вновь и вновь я возвращаюсь в Кингстонские холмы, ища новое место для работы. И вот я нашел место, превосходящее все мои ожидания. Если все сойдется, я скажу, что нечто направило меня туда, поскольку я постоянно и настойчиво искал что-то именно в этой области и отверг несколько приемлемых вариантов в других местах. Мы с Полли так рады, что даже не осмеливаемся много думать об этом. Кумб Спрингс открывает перед нами столь чудесные возможности, что я надеюсь на некоторый настоящий прогресс. В то же время возникнут и новые опасности и ответственность».
Группа, которой я рассказал о Кумб, высказала пожелание приобрести его не для исследовательских лабораторий, а только для нашей работы, но было очевидно, что мы не потянем таких расходов. Совет Ассоциации счел Кумб пригодным для временных лабораторий, и после переговоров с миссис Хвфой Уильяме, странных, напоминающих фарс, мы подписали соглашение и получили разрешение устроить там временные лаборатории.
Так я стал директором крупнейшей научно-исследовательской ассоциации в Англии, которая, к тому же, занималась углем – основным двигателем войны. У меня не было ни академической подготовки, ни опыта научных исследований; всем эти обладали мои коллеги, возглавляющие другие ассоциации, но у меня были идеи. Я умел глубже и быстрее проникать в возможности ситуации. Было очевидно, что эпоха дешевого угля, на котором в течение века зиждилось промышленное превосходство Британии, миновала, и теперь мы должны заботиться о повышении эффективности для увеличения заработной платы и улучшения условий жизни, которые необходимо гарантировать шахтерам в будущем. Это убеждение и объясняло ту разнообразную деятельность, которой я занимался, связанную одной общей целью – более эффективным использованием угля. Я многое сделал для учреждения Комитета по Индустрии твердого топлива при Британском институте стандартов и почти в течение всей войны был его председателем. Я представлял Британскую научно-исследовательскую ассоциацию утилизации угля в Парламенте и Научном Комитете, очень влиятельном органе, насчитывающем около четырехсот членов, избираемых из обеих палат парламента, и более сотни научных обществ. Комитет, возглавляемый сэром Джоном Андерсеном, избрал меня почетным казначеем. Я отвечал за доклад о национальной топливной политике и принял активное участие в этой работе. Министр топлива и энергетики ввел меня в состав Комитета по эффективному использованию топлива под председательством доктора Е. С. Грумелла из Имперских химических предприятий. Я работал председателем подкомитета по лучшему использованию промышленного топлива, и маленького комитета, созданного для изучения и сообщения о новых разработках в области топливной экономики.
Это перечисление моих должностей может создать впечатление самоуверенного человека, успешно продвигающегося по служебной лестнице. На самом деле все было с точностью до наоборот. Все мои дела представлялись мне несоответствующими, ненужными и крайне далекими от моего истинного предназначения. Я отказался от внешнего успеха двадцать лет назад, отклонивпредложение Рамзая МакДональда о политической карьере в рядах лейбористской партии. Единственное удовлетворение я чувствовал от того, что за все время войны не делал ничего такого, что касалось бы убийства людей. Среди моих сотрудников были пацифисты; убедившись в их искренности, я был готов идти и свидетельствовать за них перед Трибуналом, рассматривающим дела отказывающихся от военной службы по политическим или религиозным убеждениям. Сам я считал абсолютный пацифизм утопией. Право критиковать и противодействовать насилию имеет только тот, кто никогда не совершает насилия и не использует с выгодой насилие, совершаемое другими. Я не удовлетворял этим условиям. С другой стороны, войну саму по себе я считал отвратительной. Я не доверял нашей пропаганде и знал, что немцы так же искренно убеждены в своей правоте, как и мы.
По моему мнению, войны была скорее глупостью, чем заблуждением. Я никогда не был страстным приверженцем веры в святость человеческой жизни, превращающей людей в пацифистов. Отнять жизнь, даже опосредованно, – это греховно, но не ужасно. Я был убежден, что жизнь человеческой души не зависит от существования его тела. Мне казалось, что ужасы войны скорее обусловлены страхом смерти, что, в свою очередь, является следствием неверия. Многие из знакомых мне атеистов были пацифистами; но большинство искренне верующих в Бога, в Его Провидение и в бессмертие души пацифистами не являлись.
Я жил в страшнейшем напряжении. Война и бомбежки не были самым худшим. Непримиримый внутренний конфликт проникал во все виды моей деятельности. В простейшей ситуации я находил подтверждение нелепости человеческой жизни. Однако было одно исключение, о котором я должен упомянуть; оно относилось к воздействию музыки и друзей-музыкантов, которыми в то время обзавелись мы с женой. Хильда Дедерих, талантливая пианистка и жена моего председателя, Германа Линдарса, тоже прекрасного музыканта познакомила нас с Денизой Лассимонне и Мирой Хесс, а также с другими учениками великого Тобиаса Мэттхэя. Мы с женой часто навещали его в Хай Марли, над Хаслемере. Хильда Дедерих давала мне уроки фортепьяно и научила меня немного искусству прикосновения. Рождество 1941 года мы провели с Мэттхэем и его ближайшими друзьями. Я писал: «Мы провели чудеснейший день: доброта, музыка, смех, атмосфера гармонии и умиротворения. Кажется, здесь живут только добро и красота. Более того, живут не пассивно, но распространяют свои благотворные влияния на весь мир. Дядюшка Тобс – источник и главное русло всего этого. От него исходит истинная любовь к прекрасному, неколебимая искренность, которая производит новые ценности в тех, кто ее воспринимает».
С дядюшкой Тобсом Мэттхэем наша близкая дружба продолжалась вплоть до его смерти в 1945 году. Мы не уставали поражаться и радоваться тому, что он был готов видеться с нами, когда угодно. Себя он считал агностиком. Он знал, что я верю в бессмертие, и часто говорил со мной о душе. После его смерти я удостоился доверия развеять его пепел на склоне горы над Хай Марли. Для меня было несомненным, что он достиг освобождения от земных влияний, что позволяет душе войти в полное существование после смерти. Такая душа продолжает сеять вокруг себя добро и после ухода с земной сцены.
В 1942 году я был избран членом Литературного клуба. Придя туда впервые после избрания, я сел на то же самое место, где сидел с МакДональдом двадцатью годами ранее. Я оглянулся в прошлое. Вторая мировая война, которая в 1922 году считалась неизбежной, была в разгаре. Тщетность политических усилий была очевидна для меня как тогда, так и сейчас. Я сидел среди честнейших пожилых людей, углубившихся в обсуждение проблем, так или иначе связанных с войной. Я был столь далек от них, словно бы не жил на земле в физическом теле. Я не был мудрее или лучше любого из этих уважаемых и знаменитых людей, но я ясно видел то, что ускользало от них: ум человеческий никогда не разрешит фундаментальных проблем человеческой жизни.
Война, если не величайшее преступление, то величайшая глупость, которую только может совершить человек. Я был уверен в победе союзников. Это уверенность зиждилась не на правоте союзников и не на мудрости их военоначальников, но на абстрактном принципе, согласно которому любая попытка стать властелином Вселенной обречена. Я не забыл своих миротворческих опытом двадцатилетней давности. Я был убежден, что мир вступает в длительную полосу бед и катастроф. Это должно было коснуться всего человечества, но тогда я полагал, что отдельные люди или маленькие группы смогут избежать вовлечения. Ведь те тридцать-сорок человек, работающих со мной, были лишь слегка затронуты войной. Никого не убили и даже не ранили, несмотря на воздушные атаки и рукопашные бои. И это произошло без отклонения от военной службы. Создавалось впечатление, что мы служили цели, стоящей за нашим собственным благополучием. За годы, прошедшие с того времени, я неоднократно наблюдал, что на призванных к великой цели распространяется некая невидимая защита.
Эти идеи получили свое выражение благодаря поставленной мной задаче описать гурджиевскую Систему так, как я ее помнил. С момента отъезда Успенского все свободное время я писал. За неделю я набрасывал главу, прочитывал ее группе и, исправлял с учетом их вопросов и комментариев. Эта работа казалась мне тем более важной, что не было никаких публикаций, касающихся Системы. Успенский говорил, что не собирается печатать свои работы, и была угроза уничтожения его рукописей. В то время я не знал, что Гурджиев потратил годы на описание собственной версии в монументальной книге «Все и вся», десятки копий которой разошлись по трем континентам.
Успенский полагал невозможным систематизированное изложение гурджиевского учения, но я считал, что следует сделать одну тему центральной для придания работе структурированности и стройности. Такой темой для меня стали триады – теория о том, что все существует и случается во Вселенной благодаря совместному действию трех независимых импульсов.
Изучение Закона Трех заняло более двадцати лет моей жизни, так что я должен вернуться назад к тому времени, когда я впервые осознал его значение. Это началось в 1934 году, когда Успенский, предложив нескольким ученикам изучить Закон трех, принял мое предложение заняться его исследованиями в священных индийских писаниях. Усиленное чтение Вед, Упанишад и Махабхараты привело меня к шестой книге великой эпической поэмы, в которой разнообразие, присущее всему существованию, относится за счет шести возможных сочетаний трех гун, или качеств природы: Саттвы, или чистоты, Раджас, или доминирования, и Тамас, или инертности. В Санкхия Карика, которую я читал в старом санскритском издании, я обнаружил подобный подход с добавлением, что все три гуны находятся в совершенном равновесии и объединенности только в мире главного Бытия.
Я рассказал об этом Успенскому и услышал в ответ, что, по его мнению, должно быть шесть или семь фундаментальных законов, управляющих существованием, производных шести возможных и одной невозможной комбинации трех качеств, которые Гурджиев называл утверждающей, отрицающей и нейтрализующей силами. Он рассказал об этом на одном из общих собраний и предложил разработать эти шесть законов. Он очень одобрительно отозвался о моих изысканиях, к моему вящему удивлению и удовольствию, после категоричного отвергания моих многочисленных попыток высказать какую-нибудь свою идею.
Около двух месяцев все наши собрания были посвящены этой теме. Неожиданно, в своей обычной манере, Успенский оборвал обсуждения и отказался в дальнейшем говорить об этом. Мой интерес был слишком глубок, и я продолжил исследования самостоятельно.
Обнаружив через некоторое время, что не двигаюсь вперед, я отказался от своих изысканий. Думаю, что Успенский прекратил их по достижении некоторой точки, начиная с которой требовалось некое новой знание, чтобы совместить абстрактный закон с конкретными фактами, а это знание не проявлялось вплоть до определенного времени.
Прошло семь лет, Успенский отправился в Америку, как вдруг представление о триадичности вновь спонтанно захватило мое внимание. Я связываю это с переселением в Кумб Спрингс. Был июнь 1941 года. Мы с женой постепенно осваивали дом. Я хотел совместить устройство лабораторий с нашим добровольным желанием вернуть былую красоту заброшенной земле. Странная история этого дома иллюстрировала триадичность, которою я никак не мог понять. Новые идеи кипели во мне, я чувствовал необходимость испытать их в деле. Для начала я предложил исполнительному комитету Ассоциации разрешить мне приглашать на выходные друзей для работы в саду и таким образом привести там все в порядок, не тратя деньги, выделенные на научную работу.
Третьего августа я привез в Кумб группу людей около двадцати человек, и весь день мы работали в саду. Ночью мы с женой остались одни, также и на следующий день. Я писал в дневнике: «Нам казалось странным, что всю свою жизнь я никогда не привязывался к месту, никогда у меня не возникало желания иметь дом. Даже сама эта мысль была мне чужда, так как в будущем я всегда предполагал отправиться на восток. Внезапно такое место появилось, и я ни на минуту не сомневался, что именно здесь мой дом». Тринадцатого августа в Лондоне мы праздновали двадцать первый день рождения моей дочери. Воздушная атака прервала наш праздник. Три года я искал верный тон в общении с ней. До сих пор я был слишком далек от умения проникаться чувствами других. Дочери нужен был отец, а не примерный родитель, а я даже не догадывался, что это не одно и то же. В то время как мой родной отец был очень хорошим отцом, но плохим родителем. Но ни за что на свете мы с сестрой не променяли бы его ни на кого другого.
Через несколько дней я отправился с небольшой группой в Сноудон, в Северный Уэльс. Мы остановились в Пен-и-пас. Проехать в древнем паккарде с трейлером, вырабатывающим газ, на буксире двести пятьдесят миль было немалым достижением. Наше путешествие, совершенное на коксе, ненормированном топливе, вместо нефти, тогда строго лимитируемой, вызвало большой интерес. Источник газа был разработан и построен сотрудниками Британской научно-исследовательской ассоциации утилизации угля.
Все мы, молодые и старые, разместились в палатках. В путешествие отправились с десяток человек; мы провели вместе двенадцать дней. В течение этого времени я занимался тем, что считал и считаю наиважнейшей творческой работой моей жизни. Это было прозрение шести фундаментальных законов существования и способа, которым они образуют вторичные законы, проходя с одного уровня на другой. Результаты этой работы вошли во второй том «Драматической Вселенной», поэтому я не буду здесь говорить о них особо. Но о том странном способе, которым они пришли ко мне, стоит рассказать.
Я настаивал на работе над философскими темами, но в первое же утро по прибытии я поднялся засветло и отправился к большому скоплению холмов к востоку от Сноудона. Я был один. Тишина изредка прерывалась чириканьем случайной птички и блеянием овец. Я наблюдал волшебный восход и был потрясен контрастом между несчастным Лондоном, сотрясаемом бомбежкой, и этим местом мира и покоя.
Прогуливаясь, я вдруг увидел законы, управляющие этими процессами. Эволюция и инволюция: Сила, нисходящая Свыше, и борьба Существования за возвращение к источнику. Все существующее было вечным и неразрушимым, но постоянно изменяющимся, смешивающимся и наполняющим Вселенную бесконечной деятельностью. Универсальный Порядок и, наконец, Любовь и Свободу, пронизывающие все. Я кричал от радости, благодаря Бога за то, что он показал мне такие чудеса.
Вернувшись в лагерь, я позавтракал и принялся писать. Остальные ушли в горы. К вечеру я записал все, что видел, а одна из девушек, бывшая с нами, Хильда Филд, перепечатала это. Вечером я прочел это вслух, и мы все разделили это чудо.
На следующее утро я вновь отправился на прогулку и увидел каждый закон в чистом и смешанном видах. Тут я понял, почему восемь лет назад мы потерпели неудачу в изучении триад. Успенский не смог распознать истинно космическую природу нескольких триад. Вновь мои записи были перепечатаны Хильдой.
Так продолжалось день за днем. Иногда меня ставила в тупик сложность увиденного, и я не мог описать его. Я понял, как простота триад описывает весь потрясающе запутанный паттерн нашего существования. Я смог передать лишь часть увиденного, но и этого хватило, чтобы положить начало работе, которую я вел в течение пятнадцати лет.
Последняя часть этих опытов стала их кульминацией. По делам я должен быть съездить в Глазго. Газовый автомобиль доставил меня в Бангор, откуда началось весьма медленное путешествие. Я приехал в Грив за четыре часа до отхода поезда Лондон-Глазго. Комната отдыха была темной, грязной, заполненной галдящими, спящими, подвыпившими солдатами. Окруженный всем этим, я сел и заснул. Проснувшись, я понял, что повторяю: «Есть и негативные триады». Значение этого моментально прояснилось для меня, и, найдя несколько листков бумаги, я записал описание негативных триад.
Задача была выполнена. Негативные триады были в каком-то смысле наиболее потрясающим открытием из всех. Я назвал их: Воображение, или негативная Инволюция; Самопочитание, или негативная Эволюция; Страх, или негативная Тождественность, Расточительство, или негативное Взаимодействие; Субъективизм, или негативный Порядок; и Идентификация, или негативная Свобода. Они являются главными дефектами Воли, и, осознав их значение, я почувствовал, словно с моих глаз упала пелена, открывая секреты человеческого греха и страдания.
Когда я на следующий день вернулся из Глазго, наше путешествие почти завершилось. Я прочел свои записи о негативных законах. Я уверен, что все мои спутники никогда не забудут эти двенадцать дней. Мы все разделили мой опыт. Эти видения отличались от тех, которые бывали у меня раньше. В этот раз мне открылась истина, предназначенная не для меня одного.
Вернувшись в Лондон, я временно отложил все, что написал в Сноудене. Я не был готов к дальнейшей работе над этим. Напряжение должно было быть слишком сильным для меня, так как я заболел пузырчаткой. Все мое тело покрылось болячками, и целую неделю я пребывал в весьма плачевном состоянии. Только 17 сентября я смог вернуться к работе. Я убежден, что межу состояниями нашего тела и психики существует тесная связь. Оказавшись на время в состоянии осознания великих истин, мое тело из-за нечистоты психики вынуждено было нести на себе тяжесть последствий. Оглядываясь назад, я вижу, что всякий раз тело расплачивалось за прозрения высшей реальности.
Осенью 1941 года, судя по записям в дневнике, я находился в весьма раздраженном состоянии. Я пытался написать главу о высших центрах человека и обнаружил, что зажат в тиски между страхом поддаться воображению и убеждением, что несколько раз в своей жизни я испытывал действие высших сил в самом себе. Я пытался отвлечься чтением мистической литературы Востока и Запада, но, чем больше я читал, тем больше убеждался в существовании некоей скрытой связи между сексуальной функцией и мистическим опытом. Успенский всегда отметал наши вопросы о сексе, хотя в его книге «Новая модель Вселенной» говорится о сексуальной функции как о необходимом элементе выполнения индивидуального предназначения. Закончив главу о сексуальной функции, я прочел ее жене, которая, внимательно выслушав, заметила: «Возможно, ты упустил главное. В сексуальных силах человека заключено больше, чем мы догадываемся. Давным-давно я пришла к выводу, что одной из трагедий современного человека является его неспособность распознать истинное значение секса. Люди думают о сексе как о чем-то исключительном и отдельном, хотя это именно та сила, в которой все человечество может объединиться. Лучше бы ты не читал эту главу группе – они могут тебя неправильно понять. Твое негативное отношение к сексу ложно; только тогда, когда ты освободишься от него, ты сможешь понять женщину». Я последовал ее совету.
В то время мы с женой уже жили в Кумб Спрингс. Первого ноября 1941 года нас пригласили в Лайн. Успенский прислал письмо, в котором говорилось, что американская группа предоставила в его распоряжение большое поместье в Нью-Джерси, называемое Франклинские Фермы, с несколькими сотнями акров земли. Он испытывал большие трудности в организации работы из-за отсутствия опытных помощников, но надеялся создать в Соединенных Штатах постоянную группу. Он хотел, чтобы работа в Лайне велась на возможно высоком уровне, чтобы одна группа помогала другой. Он писал также, что главная угроза миру – это большевизм, и выражал беспокойство о будущем Европы даже в случае победы союзников.
Всех присутствующих охватило ощущение близости и симпатии в предвкушении тесной связи с работой в Соединенных Штатах. Я был огорчен политическими воззрениями Успенского. Было очевидно, что в будущем я все больше буду вынужден опираться на собственные силы. Требование поддерживать Лайн на «возможно более высоком уровне» и одновременное запрещение всякой личной инициативы явно было не выполнимо. Для меня Работа была чем-то динамичным, оставалась живой, только ширясь и углубляясь. История религиозных и духовных движений показывает, что, когда на смену поиску и движению вперед приходило стремление удержать и сохранить, раздавался похоронный звон. Взволнованное, приподнятое настроение, охватившее нас в Лайне, оказалось просто следствием какого-то происшествия после длительного периода затишья. Вскоре работа в Лайне стала медленно, но верно затухать, неизбежность чего была очевидна с самого начала.
Через несколько месяцев мои отношения с Успенским из плохих превратились в отвратительные. В его группе образовалась привычка, основанная на принципе «От Учителя нет секретов», докладывать обо всех, реальных или мнимых, провинностях других членов группы. Это не вызывало никаких серьезных проблем, пока Успенский был рядом и любые недоразумения быстро разрешались. После его отъезда в Америку эти добровольные доносы принесли всем нам большой вред. Я был лишь одной из целого ряда жертв. Естественное и оправданное недоверие Успенского к моей импульсивности было усилено сообщениями, что я читаю лекции и пишу книги о Системе. Первое указание на то, что в нашем последнем разговоре он не отговаривал меня, а запрещал писать, пришло в мае 1942 года, когда я получил письмо, в котором подчеркивалось, что никто не имеет право писать о чем бы то ни было без его разрешения. Я попытался на несколько недель прекратить свою работу и не использовал ее на своих занятиях. Это убедило меня в необходимости и полезности моих писаний. Я ответил Успенскому, напомнив, что обсуждал этот вопрос до его отъезда, и вернулся к своей работе. Я начал также читать лекции, на которые поначалу приходили люди, частным образом приглашаемые моими учениками. Раз в две недели группа собиралась в Кумб Спирингс для совместной работы. Я начал также обучать ритмическим упражнениям, которым научился в Prieure и Лайне и которые сейчас называются «Гурджиевскими Движениями».
Возможность общения с ближайшими учениками Успенского была резко ограничена войной. Я оказался очень занят устройством новых лабораторий в Кумб Спрингс, где мне предоставили полную свободу научных исследований. Несмотря на военное сокращение строительства, я смог внедрить некоторые идеи, почерпнутые в Фульхэме, и лаборатории были приспособлены как для небольших опытов, так и для пилотного оборудования, с помощью которого можно было разрабатывать программы коммерческого внедрения той или иной продукции. В 1942 году устройство лабораторий было завершено, их открывал сэр Эдуард Апплтон, секретарь научных и промышленных исследований при лорде президенте. Нашим же президентом был сэр Эван Уильяме, мудрый и опытный глава Ассоциации Углевладельцев Великобритании.
Я очень гордился своими сотрудниками, собранными в трудных условиях военного времени. Работа была мне по душе, и все же я не мог отделаться от мысли, что это преходящий интерес и преходящая ценность, в то время как мои группы могут внести вклад, пусть скромный и несовершенный, в общее благосостояние тех, кто ищет духовные ценности. Я никогда не относился к угольным исследованиям как к чему-то, на чем можно остановиться.
Как бы там ни было, Британская научно-исследовательская ассоциация утилизации угля ощутимо двигалась вперед. Было решено сконцентрировать усилия на выпуске более эффективного оборудования для домашнего использования угля. Мы сотрудничали с научно-исследовательским отделом Имперских химических предприятий в деле использования щелочей для увеличения реагирующей способности кокса и, таким образом, повышения его эффективности в газовых установках для железнодорожного транспорта. Мне пришлось увеличить количество сотрудников и закупить новое оборудование.
Все эти месяцы я продолжал мучиться своими дефектами и особенно бесполезными мыслями и действиями. Ретроспективно мои мучения выглядят глупо. В действительности, я хотел слишком много и обращался с собой беспощадно.
Несмотря на внешнюю гармонию, между мной и Ассоциацией Углевладельцев, могущественной организацией, от которой зависело будущее нашей Ассоциации, были заронены зерна непонимания. Я лично надеялся прекратить свою научную деятельность и посвятить себя обучению и написанию книг о Системе. Но мое стремление к быстрому расширению промышленных исследований казалось другим амбициозными планами заполучить от углевладельцев как можно больше денег на словах для Ассоциации, а на деле для собственного обогащения.
Однажды я обратился в Северо-западное отделение Института топлива, в котором говорил, что мы должны признать тот факт, что время дешевого угля миновало, и в скором времени с возросшими ценами придется бороться повышенной эффективностью. Я добавил, что мир неминуемо движется к уменьшению потребления угля. Это обращение, которое напечатали с благожелательными комментариями в финансовых колонках «The Times», вызвало неожиданную оплеуху со стороны Ассоциации горной промышленности. Мне сказали, что политика цен в промышленности не относится к сфере моих дел.
Я должен был распознать в этом зловещее предзнаменование, но так ни о чем и не догадался. Я знал, что не пытаюсь устроить себе тепленькое местечко в послевоенном мире, и из-за своей обычной неспособности понимать чувства других людей не подозревал о враждебности и недоверии, которые вызывали мои действия.
Прошла зима 1941-42 годов. Налеты на Лондон стали менее жестокими. Ситуация на фронте складывалась непростая, но мы готовились к возобновлению работы, убежденные, что победа союзников предрешена. Моя работа в Ассоциации процветала. В 1942 году я был избран председателем на Конференции научно-исследовательских ассоциаций, проводимой департаментом научных и промышленных исследований. Это была неожиданная честь, так как я был единственным директором из двадцати пяти руководителей научно-исследовательских ассоциаций, представляющих главные промышленные направления страны, без академических званий и долгого опыта научной работы. Меня выбрали благодаря моему умению видеть перспективы индустриальных исследований в Великобритании в гораздо большем масштабе, чем мои коллеги, которые боролись за получение прибыли в ближайшие десять-двадцать лет. Я понимал, что разрушительная война столь сильно ослабит Англию в финансовом смысле, что научный и технический гений нашего народа будет направлен исключительно на выживание. Научно-исследовательская деятельность из Золушки промышленности превратится в ее любимейшее чадо. Я хорошо усвоил урок де Кэя о том, что легче протолкнуть крупные проекты, чем небольшие. Я настаивал на необходимости планировать промышленные исследования, опираясь на миллионы фунтов, в то время как другие еще мыслили десятками или тысячами. Как почетный казначей Парламентского и научного комитета, я неоднократно сталкивался с необходимостью более масштабного подхода к научным и промышленным исследованиям.
В конце года я получил приглашение от председателя наиболее крупной Британской Угольной Компании провести несколько дней в его доме в Уэльсе. Он просил меня рассказать о собственных идеях научно-исследовательской политики Британской Угольной Компании. Возвращаясь, я чувствовал опасность быть захваченным общественными заботами, которые неминуемо отодвинут на второй план мои внутренние вдохновения. В поезде я записал молитву: «О Творец и все Твои Сознательные Силы, через которые проявляется Святая Воля, позвольте мне пробудиться ото сна, освободиться от механистичности и рабства и обрести прибежище в Сознательной Деятельности, откуда не может прийти зло. Позвольте мне повернуться от части к Целому, от временного к Вечному, от себя к Тебе».
Эта молитва не осталась без ответа, но его ценой стал очень горький опыт. Весь мой мир разрушился, прежде чем я вернулся на путь, который, по моему глубинному пониманию, был верен.
Глава 17
Прозрение космических законов
Мы прожили год в Кумб Спрингс, там установился ритм жизни, до некоторой степени гармонизирующий мои интересы и деятельность. Это позволило мне осознать, насколько раньше моя жизнь была разорвана на части. Но ни в одной из частей не оставалось места для исследования геометрии высших измерений, убежденности в такой же реальности Вечности, как и Времени. Я поддерживал громадную переписку с друзьями на Ближнем Востоке и никогда до конца не отказывался от мечты длительного тайного путешествия на Восток: но это оставалась не более, чем мечтой. В личной жизни моя разорванность была не меньшей. Жена представляла один источник, а дочь – другой источник импульсов, кроме них были и другие, не вписывающиеся в мой паттерн вовсе. Короче, я был не одним, а несколькими Беннеттами, делящими между собой одно тело, но живущих разными жизнями.
Степень внутреннего конфликта, к которому приводили эти различные жизни, стала понятна только тогда, когда эти жизни начали пересекаться. Очевидно, это произошло потому, что я жил в Кумб, где целую неделю занимался угольными исследованиями, а по выходным работал с группой учеников. Жена стала библиотекарем в Ассоциации, и мы работали вместе так, как никогда раньше. Еще более замечательным оказалось мое открытие, что штат Ассоциации включал в себя математиков и физиков, не только заинтересовавшихся моей пятимерной теорией, но и обладающих гораздо большими аналитическими навыками, чем я.
Двое ученых из Кембриджа, рекомендованных мне лордом Резерфордом, М. В. Тринг и Р. Л. Браун, в свободное время принялись за создание геометрического представления Вечности в виде пятого измерения. Благодаря их навыкам мы получили превосходные результаты, вылившиеся в совместную статью, которую мы надеялись опубликовать Однако нам не хватало уверенности в себе для основания теории, столь разительно отличающейся от тех, истоком которых являлись работы Альберта Эйнштейна. Мой близкий друг профессор Марчелло Пирани познакомил меня с профессором Максом Борном, согласившимся прочитать нашу статью. С превеликим трепетом мы отправили ее ему 14 августа 1943 года. В то время я был преисполнен окрыляющих надежд. Я писал: «Эта статья может изменить ход истории». И добавлял: «Но только если ее научные достоинства будут приняты людьми науки. Поэтому сейчас столь странный и столь многообещающий момент».
Летом я с группой из 25 человек отправился на Английские озера. Нас очень гостеприимно встретили в Лэнгдале, городке со старой пороховой фабрикой, спрятавшейся за десятком каменных домишек, и одним большим зданием, превращенным в гостиницу. Множество ручьев журчало вокруг. Мы были совсем одни. Каждый день мы подолгу бродили по холмам и возвращались для выполнения гурджиевских упражнений на площадку для игры в мяч. После обеда мы устраивали обсуждения. В то время мои интересы были поглощены взаимодействиями различных уровней Бытия.
«Происхождение видов» Дарвина отвлекло внимание философов от шкалы Бытия, развиваемой биологами от Аристотеля до Кювье, но я чувствовал, что в этой естественной иерархии, реальность которой была очевидной для всех нас, мы должны найти один из ключей для понимания человеческого предназначения. В то время я писал эссе, позднее ставшее 35 главой «Драматической Вселенной».
В Лэнгдале мы получили письмо от профессора Макса Борна, в котором говорилось: «Статья чрезвычайно меня заинтересовала, но мне нужно время, чтобы сделать определенные выводы». Он согласился приехать к нам в Кумб Спрингс. Математические выкладки в статье, сказал он, безупречны, но невозможно поверить в фундаментальное предположение, что пространство и время в значительной степени являются условиями существования. Он полагал, что они проистекают из природы материи, точнее, материя – это то, что мы воспринимаем в рамках пространства и времени. Его интерес воодушевил нас, хотя его больше волновала та форма, в которой мы представляли наше главное предположение. Мы едва ли догадывались, что пять лет работы отделяют нас от публикации в «Трудах Королевского Общества».
Вернувшись в Лондон после семинара в Лэнгдале, я обнаружил, что судьба распорядилась так, что Ассоциация горной промышленности Великобритании сочла нужным ограничить мою свободу и выступления. Первым моим побуждением было остаться и попробовать вернуть утерянные позиции. Но затем я понял, что в действительности хочу устраниться, так как у меня было слишком много работы и я нуждался в некотором сокращении собственной деятельности. Вместо этого я взваливал на себя все больше и больше. К нашим занятиям по выходным в Кумб я обязался прочитать цикл лекций в Вестминстерском Церковном Дворце на тему «Человек и его Мир». Лекции умели успех, и наша группа крепла месяц за месяцем. Но я запустил свою работу в Ассоциации горной промышленности. Наш президент, Герман Линдарс, был глубоко огорчен. Он был уверен, что я перетрудился и что напряжение войны повлияло на мои заключения. Я отнесся к нему без должного понимания и благодарности. Наша близкая семилетняя дружба и сотрудничество были омрачены моим неприятием любого давления извне. Теперь я понимаю, насколько неразумно себя вел. Я хотел быть свободным от обязательств и одновременно боролся за то, чтобы все держать в своих руках. Помню, как я читал своей жене выдержки из “Эгоиста”: «Трудно уступить, если тебя заставляют». Она не могла понять, почему, видя свою глупость, я продолжал поступать точно так же.
В то время я упорно работал над проблемой упрямства. Я был крайне упрям. Даже не желая быть упрямым, я ничего не мог с этим поделать. Повторение Иисусовой молитвы в течение девяти лет служило постоянным напоминанием. Сотни раз на день я проговаривал Fiat Voluntal Tua, но, когда я останавливался и спрашивал себя, могу ли я утверждать и настаивать, чтобы Воля Божья была во всем, всегда находились какие-нибудь условия. «Да, – отвечал я себе, – «я хочу, чтобы на все была Его Воля, только в этом, в том и в третьем случае пусть Его Воля совпадет с моим желанием”.
Я мог бесконечно долго произносить «Да будет на все Воля Твоя», но всегда прибавлял что-нибудь от себя. Это казалось совершенно бессмысленным. «С Богом не торгуются», – говорил я себе, но продолжал торговаться.
Это настолько потрясло меня, что я не мог не поделиться с остальными. Как-то на одном из моих публичных выступлений поднялся человек и спросил: «Какое место занимает молитва в вашем учении?» Я ответил: «Молитва – великая вещь, но надо понимать, откуда она исходит. Первая молитва, основа всех остальных молитв, выражается словами «Да будет Воля Твоя». Если я не могу всем своим существом произнести эти слова, имею ли я право молиться как-нибудь иначе? Я годами борюсь с собой, и все же, когда одна часть меня говорит: «Да будет Воля Твоя», другая подхватывает: «Но пусть будет по-моему», так какой же прок от моей молитвы? Лучше уж не молиться вовсе, пока вы не узнаете себя и свои противоречия. В настоящее время единственной необходимой молитвой является просьба о том, чтобы увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле».
Этот ответ показывает мой нетерпимый и бескомпромиссный подход к проблемам человека. Я был беспощаден к себе и все же никогда не удовлетворен своими достижениями. Седьмого сентября 1943 года я написал: «Мадам Успенская всегда говорила, что я чересчур добр к самому себе. Я знаю, что это правда. Но что еще хуже, я слишком безразличен к благосостоянию других». С такими взглядами у меня неизбежно не оставалось иного оружия, чем мое упрямство, чтобы произносить Fiat Voluntas Tua. Нелепость всего этого была для меня не очевидной, и, даже когда моя жена заговорила о непоследовательности моих подходов, я не смог понять, что она имеет в виду. Я не только любил ее, но и восхищался ее способностью проникать в глубины человеческого характера. Я признавал, что она гораздо более восприимчива, чем я, и все же не доверял ее глубокому понимаю, когда оно касалось меня. И во вне, и внутри моя жизнь была охвачена конфликтами.
Я испортил отношения не только с угольными промышленниками, наше непонимание с Успенским достигло своего апогея. Я послал ему копии статьи, исправленной совместно с Тринтом и Брауном после критических замечаний Борна. Как раз перед Рождеством я получил от него последний ответ, адресованный лично мне. Перечитывая его сейчас, через семнадцать лет, я осознаю его значение в гораздо большей степени, чем тогда. Он так отозвался о статье о пятимерном мире: «В лучшем случае это лишь прибавит еще одну теорию термодинамики, и ничего больше». Затем он отмечал, что ничто не может быть достигнуто только с помощью интеллектуального процесса и что у нас есть только одна надежда: найти способ связаться с высшим эмоциональным центром. А к этому он прибавлял: «Но как это сделать, мы не знаем». Заканчивалось письмо категорическим запрещением использования идей о Системе, не важно, входивших в его лекции или нет. Я мог, если хотел, цитировать его единственную опубликованную книгу «Новая модель Вселенной».
Успенского беспокоил тот вред, который могла принести неправильная интерпретация Системы. Это стало ясно из письма, присланного одному из самых близких и доверенных его учеников, в котором говорилось: «Все в Лондоне должны остерегаться малейшего отхода от тех записей о Системе, которые я оставил».
Эти письма позволили с другой стороны взглянуть на мои проблемы упрямства и подчинения. И неважно, прав или нет был Успенский, требуя подчинения ему всей личной инициативы его учеников. Дело было в том, что я никогда не подчинялся и не мог пожертвовать своей независимостью, как остальные. Я писал: «Я не знаю, что означает полное повиновение или полное подчинение. Конечно, внешне я много лет подчинялся. С 1933 по 1938 годя не делал ничего запрещенного даже в малейшей степени и следовал Работе, не спрашивая почему или зачем. Но внешняя покорность лишь прикрывала тем более сильное внутреннее самоопределение».
Я не сомневался, что должен писать. Когда я впервые встретился с ним, он поучал нас, что значит «расти или умереть». Так почему же он отрицал нашу способность расти? «Можем ли мы, – спрашивал я у себя, – вечно бороться, только затем, чтобы выстоять?”
Прошла зима 1943 года. Моя жена заболела. Ей было тогда шестьдесят девять лет и ее болезнь внушала опасение, что дни ее полноценной активной жизни сочтены. Она собственноручно выписала из книги тибетских изречений следующее: «В высшей степени необходимо осознавать, что время мчится для нас так же быстро, как последние несколько мгновений для смертельно раненного человека». Вставив его в красную рамку, она все время носила его с собой.
Я все больше и больше изматывался и, как следствие, стал допускать ошибки в своей работе. Герман Линдарс дружески настоял, чтобы я взял отпуск и хорошенько отдохнул хотя бы месяц. «Но пообещайте мне не заниматься ничем. Отдохните по-настоящему». Ни к чему хорошему это, увы, не привело. Мы отправились в Харлей и остановились в гостинице «Старый колокол». Но я взял с собой все свои записи и целыми днями работал. Я так и не смог научиться отдыхать, хотя пребывание в Харлее было очень счастливым временем для нас обоих. Жена поправилась, и я вновь почувствовал себя умиротворенным. Но так и не смог или не захотел отдохнуть. Мы мною говорили о будущем. Я собирался выйти из угольных исследований сразу по окончании войны. Я надеялся, что мы сможем купить Кумб Спрингс, когда Британская научно-исследовательская ассоциация по утилизации угля покинет это место. Я не сомневался, что должен искать духовные ценности, а не добиваться материального успеха. В это время мы часто ездили в Лайн и вели длительные и серьезные беседы с ближайшими учениками Успенского, остававшимися в Англии между «консерватизмом» и «развитием», между тем, что я считал статическим и кинетическим подходом к идеям ценностей. Наши пути, очевидно, расходились. Я был очень опечален. Я предвидел, что вскоре Успенский порвет все связи со мной и я снова останусь и буду сражаться в одиночестве.
Сразу после Пасхи я вернулся в Кумб Спрингс и обнаружил, что были предприняты шаги, подрывающие мой авторитет. Я был очень задет и чувствовал, будто мне в спину вонзили нож. Я досадовал, что внешние события так меня беспокоят. Несколько дней я ненавидел всех и себя самого.
Ранним утром 14 апреля 1944 года я, как обычно, отправился в Спрингс, чтобы с головой окунуться в привычные обязанности. День уже начался, но солнце еще не взошло. Я плохо спал и был в отвратительном состоянии, я кипел раздражением против Успенского и его учеников, против Линдарса и Совета Ассоциации и даже против моей группы, которая не могла проникнуться моими трудностями. Спускаясь вниз по тропинке, я сказал себе: «Пришло время пожертвовать всем этим самолюбием и жалостью к себе». Я произнес вслух Fial Volubtas Tua впервые в жизни без всякой задней мысли. В мгновенно пронесшемся сознательном видении мне открылось будущее, и не одно, а все возможные его варианты. Я видел, как потерял работу. Я видел свой триумф. Я видел, как Успенский окончательно порвал со мной, и его ученики отворачиваются от меня на улице. Я видел себя, окруженного любящими и доверяющими мне людьми. Все это и гораздо большее присутствовало во мне в один и тот же момент. И я принял любое из этих будущих. Всему, что ни пошлет Господь, я готов следовать и не задавать вопросов.
В тот самый момент, как я принял это решение, я буквально наполнился любовью. Я воскликнул: «Иисус!» Иисус был везде. Каждый вновь распустившийся листочек на иве был полон Иисусом, и громадные дубы, еще не одевшиеся зеленью, и паутина, сверкающая утренней росой, и небо на востоке все в лучах восходящего солнца. Иисус был везде, наполняя все любовью. Я знал, что Иисус – это любовь Бога.
Я понял, что каждая отдельная часть вмещает очень мало Божьей Любви. Я сказал себе: «Без концентрации Его словно бы и нет здесь». Пока я говорил эти слова, они были полны смысла, но теперь я забыл, что они означают, запомнив только, что для жизни с Любовью Господа, то есть в единении с Иисусом, необходимо молиться, не останавливаясь. Эта практика, которой я усердно занимался столько лет, ничего не принесла, поскольку без любви молитва пуста.
Я вернулся в дом, приготовил чай, разбудил жену и рассказал ей о том, что видел. Она разделила это со мной. С того момента, как она пережила смерть, сказала жена, она всегда знала, что Иисус- это любовь Господа, и никогда не теряла этого видения.
Три дня я пребывал в состоянии экстаза. Все, что приходило раньше, требовало всех моих сил, объединенных в высшем усилии, а это пришло просто путем отказа от своеволия и упрямства. В таком состоянии я не мог действовать против проявления Его Воли. Например, на следующий день ко мне пришло письмо, и несправедливое, и опасное. Я хотел резко напасть на его автора, доказать, что он чудовищно исказил факты. Я хотел даже написать письмо влиятельному человеку, который мог бы восстановить справедливость. Взяв ручку, я вдруг услышал голос, идущий изнутри: «В этой ручке есть Иисус. Стоит ли использовать ее для такого дела?» Я успокоился и не сделал ничего, чтобы защититься.
Если бы я не записал свои переживания в те дни, то не смог бы положиться на свою память. На короткое время я оказался в области, где Священная Любовь является реальностью. Но прошло некоторое время, я стал прежним, и потребовалось много лет, чтобы я смог непосредственно осознавать наличие этой области.
Даже сейчас я с трудом верю в мои записи, касающиеся реального Присутствия. Там есть слова: «Надо воспринимать буквально «Возьми, ешь, это – Тело Мое». Я проник в сущностное качество великих религиозных истин. В то утро я писал: «Надо понимать буквально, как я понял, что Иисус – это наивысшая реальность личного существования и в то же время не личность в человеческом смысле этого слова». Я сделал шаг от понимания символов к участию с помощью жестов. Этот опыт помог мне освоить различие между символом как языком Бытия и жестом как языком Воли («Драматическая Вселенная», том I).
Апрельские дни 1944 года были наполнены событиями. Мне досталось лекторство Дж. Артура Ривелла в институте Общества химических инженеров. Это решение вызвало зависть и критику со стороны того отделения общества, которое хотело видеть на месте лектора члена королевского общества. Я старательно трудился над лекцией по теме «Уголь и химическая промышленность». Она должна была состояться 18 апреля, четыре дня спустя после моего предания себя в руки Божий. Я знал, что меня ждут критически настроенные и враждебные слушатели, но меня это практически не трогало.
Президент, представлявший меня, был известен своим сарказмом и не упустил возможности показать, насколько ему не нравится мое назначение. Я обнаружил, что могу рассказывать, не пользуясь записями, и постепенно зал охватило ощущение теплоты. Главным тезисом лекции было утверждение, что Британская угольная промышленность не сможет выжить только как поставщик дешевой энергии. Нужно учитывать бесконечные возможности угля как сырья для химической промышленности, которые я расписал яркими красками, возможно, даже преувеличил. В то время мало кто заметил этот доклад, разве что техническая пресса, назвавшая его «Угольным проектом нового века». Через семнадцать лет была создана правительственная комиссия по изучению потенциальных возможностей угля, которые я описал в этой лекции. Почти сразу же после Ривелльской лекции я начал чтение серии лекций по гурджиевской Системе. Я не упоминал его имени, и некоторые из слушателей решили, что это мои идеи, и обращались со мной как с «Новым Учителем». Я отказывался от подобной роли и от предположений, что являюсь источником этих знаний. Тем не менее, лекции вызвали большой интерес, и многие обращались ко мне с вопросом, моп, ли они продолжать у меня обучение. Передо мной встал вопрос, что я буду делать по окончании войны. Я обсуждал его с моими старыми учениками и друзьями, и мы пришли к выводу, что надо организовывать нечто вроде Института или Общества по изучению области, где жизнь встречается с духом.
Приготовления к окончанию войны витали в воздухе. Из-за планируемых сокращений наши лаборатории не могли оставаться в Кумб Спрингс, и после длительных поисков был куплен большой участок земли в Лезерхеде и спроектированы новые, более внушительного вида постройки. Мне предложили частную директорскую лабораторию, где я мог наблюдать за наиболее интересными с моей точки зрения исследованиями. Планы были окончательно одобрены, строительство готово начаться, и я с небольшой группой сотрудников отправился в Лезерхед, где первый камень должен был заложить мой дорогой друг доктор Кдаренс Сэйлер, старейшина угольных научных исследований в Англии. Слушая его слова о надеждах, которые он связывал с моим руководством новыми лабораториями, я, как это часто бывало раньше, испытал отделение от тела и наблюдал за этой сценой как бы из другого измерения. Я ясно видел, что никогда не окажусь в Лезерленде, и никогда не будет построена лаборатория директора.
Едва ли это можно назвать пророчеством, поскольку ситуация в ассоциации быстро ухудшалась. Открыто поговаривали, что я прекрасно справился с основанием проекта, но оказался слишком безответственным и своевольным, чтобы быть хорошим администратором. У меня появились враги, в основном, по моей же вине. Назрел также серьезный конфликт убеждений, касающийся целей исследований по утилизации угля. Если говорить коротко, целью было сохранение угольных рынков на фоне угрозы замены угля нефтью. Для этого разрабатывались устройства, более простые в использовании, более эффективные и меньше образующие дым и отходы. Работа в этом направлении продвигалась успешно, но это не могло создать новых рынков сбыта для угля. Напротив, сжигание двух тон вместо трех с той же эффективностью должно было снизить потребление угля. Послевоенный опыт полностью подтвердил этот прогноз. Сейчас, как и тогда, я уверен, что существует целая область неисследованных возможностей использования угля в качестве химического сырья. Это убеждение большинству угольных промышленников показалось мечтой ученого, которая никогда не будет реализована, и они возмущались, что на нее были потрачены деньги.
Эта тема возникла из-за серии экспериментов, начатых мной в самом начале войны, целью которых было найти применение естественным пластическим свойствам угля. В начале войны была угроза нехватки сырья для производства пластических веществ. Я сообщил Министерству снабжения, что неисчерпаемым источником пластических материалов является уголь, и можно разработать способ его соответствующего применения.
То, что я искал, описать нетрудно. Пластические материалы становятся мягкими при нагревании и затвердевают, охлаждаясь. Необходимые формы им придают под прессом при высокой температуре. При перегреве они разрушаются и больше не восстанавливаются. Уголь, размягчаясь, в то же время разрушается. Так образуется кокс, поры получаются при прохождении газов через уголь в то время, когда он мягкий. Я считал, что порошкообразный уголь, спрессованный при температуре чуть ниже температуры его размягчения, при охлаждении затвердеет и примет любую желаемую форму.
Мне предложили провести некоторые опыты, и, как это часто бывает, они казались весьма многообещающими. Ассоциации предложили контракт по разработке этого метода. По уже упомянутым мной причинам Ассоциация не особенно вдохновилась этим предложением, найдя его выходящим за рамки основного направления исследований применения угля как топлива. Я получил разрешение найти независимые источники финансирования этого проекта. Четыре крупные промышленные фирмы, возглавляемые Имперскими химическими предприятиями, согласились поддержать исследования, которые мы назвали «дисагрегацией угля», поскольку идея состояла в измельчении угля, а затем в его обратном соединении. Я поручил руководство профессору Марчелло Пирани, о котором я уже упоминал как о моем соавторе в первой научной статье. Пирани, будучи во время Первой мировой войны главой германского Osman Werke, придумал как сделать очень прочные угольные нити для ламп, и у него были собственные разработки о том, как этого добиться в более крупных изделиях.
К июлю 1944 эти исследования шагнули далеко вперед. Было получено несколько патентов, но их разработка приостановилась из-за войны. Эта работа считалась моим детищем, и Совет Ассоциации уделял ей мало внимания. Я считал ее возможностью в один прекрасный день стать независимым от Ассоциации.
Все в моей жизни постоянно изменялось. Ассоциация переехала в Лезерхед, и Кумб Спрингс остался свободным. Представители миссис Хвфы Уилльямс предложили мне купить усадьбу за совершенно приемлемую цену. Мои лекции о Системе имели успех, и каждое воскресенье в Кумб Спрингс приезжало много людей для совместной работы со старой группой, приходившей помочь в саду.
Я все еще взваливал на себя непомерные обязательства и к концу мая 1944 года серьезно заболел. Мы с женой вновь отправились в Харлей с намерением пробыть там месяц. Я был охвачен борьбой между одним «я», которое не могло смириться с поражением и жаждало славы и авторитета, и другим «я», помнящим о том опыте в саду и знающим, что мое истинное предназначение состоит в отказе от внешнего успеха и отречении от стремления к власти. Постепенно второе «я» побеждало. Всякий раз как я, свободный от желаний, был готов сказать: « Да будет Воля Твоя», ко мне возвращался внутренний мир, но демон упрямства и своеволия был далек от уничтожения. Я мог принять свою судьбу. Но не мог оставить попыток изменить ее. Эта борьба подрывала мои силы.
В то время я проводил свои занятия в Парк-Студио, в доме миссис Примрозы Кодрингтон, полностью предоставившей в наше распоряжение дом и уникальный сад для работы. Здесь мы регулярно занимались гурджиевскими Упражнениями.
Восьмого июня, в день своего сорокасемилетия, я понял, что стал другим. Я мог отказаться от стремления к власти и наконец попытаться быть терпеливым. Это звучит просто, но терпение и покой были столь чужды моей натуре, что я чувствовал себя разорванным на части. В начале июля мне сообщили, что если я уйду в отставку как директор Британской научно-исследовательской ассоциации по утилизации угля, то получу существенную компенсацию и смогу взять с собой собственные разработки по пластичности угля. Мы с женой приготовились покинуть Кумб Спрингс, где прожили менее двух лет, но чувствовали себя как дома. Мы одни отправились в Лэнгдейл, договорившись, что группа присоединится к нам через неделю. Несмотря на свои семьдесят лет, жена оставалась деятельной и подолгу гуляла со мной. Я писал последнюю главу книги о Системе. Предметом главы было Спасение, которое я понимал как освобождение человека от сил, привязывающих его к низшей природе.
Мы наслаждались редкой радостью быть только вдвоем; с меня упало напряжение всего предшествующего года. Я был спасен от вовлечения на путь, где я не нашел бы ни мира, ни духовного благополучия.
Семинар в Лэнгдейле тем летом всем нам доставил массу удовольствия. Мы вырвались из Лондона, не только избавились от воздушных тревог и военных ограничений, но и от напряженной атмосферы, вызывающей вражду и непонимание. Ослабевшая за последние месяцы связь с осознанием Присутствия Божественной Любви вернулась ко мне. Появлялась надежда, что я стану менее сконцентрированным на себе и менее упрямым. Насколько же мало я мог предвидеть!
В то время ситуация в мире представлялась довольно мрачной. Приливы злобы распространялись по всему миру, и, казалось, поиск духовных ценностей перестал вести жизнь людей. Я вернулся к мысли построить ковчег, в котором человек мог бы освободиться от всех своих деструктивных побуждений, это казалось мне жизненно необходимым.
Мы вернулись в Кумб Спрингс 20 августа. Мои планы определились: как можно скорее уволиться из Ассоциации, основать Институт психокинетических исследований и подготовиться к возвращению в Кумб Спрингс в 1946 году. Однако меня ожидал сюрприз. Я был приглашен на встречу с директором одной из крупнейших промышленных компаний, где мне предложили занять пост научного советника при правлении и более высокую зарплату, чем я когда-либо получал. Работа означала отъезд из Лондона, и подразумевалось, что она займет все мои силы и время. Я должен быть подписать соглашение минимум на пять лет. Мне намекнули, что при успешном развитии событий я могу надеяться в дальнейшем занять место ведущего директора. Перспектива стать «капитаном индустрии» бальзамом излилась на мою раненую гордость. Объявление об этом назначении восстановит мою честь, подорванную деятельностью Британской научно-исследовательской ассоциации по утилизации угля.
Вернувшись, я обрушил эту новость на свою жену. Она выслушала мой рассказ и спросила: «Почему же ты колеблешься? Разве тебя интересуют деньги и положение? Это единственное, для чего следовало бы принять это предложение. Тогда ты не сможешь достичь ничего из того, чего бы тебе действительно хотелось». Я мог бы и не спрашивать, поскольку уже сам все решил. Это был не мой путь. Помню, как я пытался выяснить истинные причины своего отказа. Было бы неверным утверждать, что меня не интересуют деньги и положение, хотя бы как свидетельство успеха. Люди, предложившие мне новую работу, были мне по душе, и я бы мог с ними поладить. Мне было всего сорок семь лет, и лет через десять я все еще мог надеяться заняться тем, чем мне хотелось.
В действительности, не было твердых аргументов ни за ни против. Я просто знал, что это не для меня. Как только я отклонил это предложение, пришло следующее. На этот раз предлагали работу над одним угольным проектом, который поддерживали две сильные промышленные группировки. Я мог остаться в Лондоне и выговорил себе условие частичной занятости. Я согласился.
В октябре я договорился с адвокатами миссис Хвфа Уилльямс о нашем возвращении в Кумб Спрингс после войны. С помощью членов моей группы я заплатил часть требуемых денег. Мы с женой восемнадцать месяцев прожили в Парк-Студио. Глава была окончена. Переживания последних двенадцати месяцев оказались крайне неприятными. Я совершал грубые ошибки и сполна платил за них. Пятого октября я писал: «В течение года я проходил через период очищения и пришел к полному осознанию своей слабости и неумения контролировать себя, равно как и собственную жизнь».
Начинала сказываться усталость, накопленная во время войны. Я решил посвятить ближайшие полтора года подготовке и надеялся, что мне удастся не взваливать на себя обязательства, которые я не смогу выполнить.
Глава 18
Знаки и знамения
В первый день нового 1945 года я решил честно подвести итоги своей жизни. Прошло четверть века с тех пор, как моя первая жена, Эвелин, приехала из Турции в Англию, чтобы дать жизнь нашей дочери. С того времени моя жизнь приобрела новое направление. Я завел связи, приведшие меня к знакомству с Сабахеддином, Успенским и Гурджиевым и ко второму браку. Все прошедшие годы с их разнообразием событий объединялись общей идеей работы над собой для достижения более высокого уровня бытия. Я никогда не сомневался в возможности такого достижения, как и в том, что ключом к нему служит система Гурджиева в передаче Успенского. И это была не теория, захватившая мое воображение, а убеждение, подтвержденное моим опытом. Но теперь, спрашивая себя, чего я достиг, я не мог найти никаких позитивных изменений. Конечно, я сильно изменился, но приобрел ли я хоть что-нибудь, что нельзя было бы отнести за счет естественного созревания человека, живущего полной событиями жизнью? Я записывал свои соображения на этот счет и, читая их сегодня, вижу, что неуверенный в собственном прогрессе, я, тем не менее, был убежден в изменении моей жены. Но в ее случае их можно было отнести за счет почти смертельной болезни семь лет назад и исцеления, открывшего ей тайны жизни и смерти.
Успенский убедил нас, что оценить уровень бытия можно по способности человека себя помнить. Спящий человек механичен, он беспомощный раб своего окружения. Только тот человек, чьё внутреннее осознание свободно от его внешней деятельности, может по праву называть себя ответственным человеком. Основываясь на этом критерии, я топтался на месте. Я не мог вспоминать себя настолько, насколько мне это удавалось, когда я впервые попробовал это в самом начале работы Успенского в Лондоне. Я был не более независим от внешней среды, чем те, кого я осмеливался учить.
Что-то было в корне неверно. Я заговорил об этом с моей женой, но она сказала: «Ты изменился больше, чем думаешь, но ты все еще ошибочно требуешь от себя слишком многого. Ты не доверяешь себе, и это плохо. Конечно это лучше чем, погрузиться в самолюбование, но это тоже слабость. Почему бы тебе не следовать своему пути и не перестать подражать мистеру Успенскому? Ты не похож на него и никогда не будешь похож, но лучше бы тебе быть тем, кто ты есть, и не убиваться по поводу самовоспоминания. Ты выполняешь полезную и нужную работу, и это должно приносить тебе удовлетворение».
Как обычно, я не прислушался к ее словам и продолжал гнуть свою линию. Я сказал себе: «Я не смог овладеть самовоспоминаем с помощью кнута, попробую пряником». Каждое утро полчаса я решил посвящать упражнениям для выработки сдержанности. Я надеялся с их помощью достичь терпения.
Вскоре после того, как я начал эту практику, от одного из старых учеников Успенского я узнал, что Гурджиев жив и был в Париже во время войны. Я был столь далек от мыслей о Гурджиеве как о живом человеке, что это сообщение потрясло меня. Странно, что я настолько позабыл о человеке, определившем направление всей моей жизни. Я решил, как только закончится война, поехать в Париж и найти его. Эта мысль была чужда мне год-два назад, когда надо мной довлело запрещение Успенского вступать в какие-либо связи с Гурджиевым. Но с прошлого лета мы с женой все более и более отдалялись от Успенского и его учеников. Этот новый год мы праздновали вместе со всей моей группой в Парк Студио. Для нас это было потрясением, так мы всегда отправлялись на Новый год в Лайн Плэйс. Первый раз за двенадцать лет нас не пригласили.
Моя подавленность исчезла, как и все наши состояния, хорошие и плохие, проходят и забываются. У меня была интересная работа, и я задумывал сделать больше, чем это было в моих силах и времени. Кроме того, я не хотел бросать книгу, форма и содержание которой постепенно вырисовывались. В феврале мы с женой в первый раз отправились погостить в Кройборроу в Суссексе. Мы переживали чудесную гармонию и были на редкость счастливы. Между моими писательскими занятиями мы гуляли по Ашдаунскому лесу под сверкающим февральским солнцем. Я забыл свои пессимистические настроения и писал в дневнике: «Смогу ли я когда-нибудь заплатить за то огромное счастье, которое получаю! Я всегда чувствовал себя в неоплатном долгу перед этим миром. Мне было дано столько счастья, а в ответ я могу сделать так мало. Я молюсь, чтобы мог сделать больше».
Первые полгода в 1945 году принесли прогресс в угольных исследованиях. Мы обнаружили, что можем вырабатывать новый вид угля со многими ценными качествами. Вместе с другими изобретателями мы занялись получением патентов. Почти одновременно я стал совладельцем более чем пятидесяти патентов в Британии и за рубежом. Новое вещество назвали деланиум, чтобы подчеркнуть наличие у него металлических свойств. В то время безвестным фирмам было очень трудно привлечь для научных исследований первоклассных ученых. Применяя нестандартные методы, я смог заполучить нескольких выдающихся молодых ученых и сколотил команду, с которой связывал огромные надежды.
Не менее успешно я привлекал людей для изучения Системы. Весной я прочел новый цикл лекций о гурджиевском учении и собрал большую и заинтересованную аудиторию. В это время к нашей группе присоединилось несколько американцев. Некоторые из них вернулись в Соединенные Штаты; я дал им рекомендательные письма к Успенскому. Наверное, у них сложилось весьма превратное представление о моей деятельности в Лондоне. Только позднее я узнал, что они решили, что мои лекции были копиями довоенных лекций Успенского.
Какой бы ни была последняя капля, чаша подозрительности и разочарования переполнилась. Первой ласточкой послужило письмо от представителя Успенского в Лондоне с просьбой «вернуть весь материал, полученный от Успенского, включая его лекции». Затем я узнал, что в Лайн пришло указание порвать все отношения со мной и не возобновлять их ни под каким видом.
В то время мы все еще жили в Парк Студио, а нашими ближайшими соседями были Джоржд Корнелиус и его жена Мэри. Он был американцем со среднего запада и работал в конторе военно-морского атташе. На мои собрания они привел нескольких морских офицеров, и вместе с женой они стали нашими близкими друзьями. Как-то раз, кипя от возмущения, он принес мне письмо от командующего Американским военно-морским флотом, в котором его предупреждали, что он стал жертвой шарлатана. Корнелиусу сообщалось, что я украл лекции Успенского и выдаю их за свои собственные. Ему советовали без промедления полностью порвать со мной, предупреждая, что в противном случае он никогда не сможет стать учеником Успенского.
Для меня это был горький день. Я оставил Гурджиева и Prieure, чтобы следовать за Успенским, и много лет пытался подчинить себя его дисциплине. Я очень хорошо знал, что упрям, и не перестал писать, когда он велел мне сделать это. Но в целом мои книги содержали мои, а не заимствованные идеи. Я считал Успенского человеком, обладающим высшей мудростью, и не подозревал, что он может поверить глупым сплетням. Я пытался найти некий высший мотив в его поступках, и не мог.
Мне не следовало оправдываться или вступать в объяснения. Если Успенский руководствовался неким скрытым мотивом, проверяя меня, оправдания были бы не к месту; если причиной его действий была злоба и подозрительность, пытаться восстановить справедливость было бы потерей времени. Теперь мне ясно, что в тогдашних моих рассуждениях присутствовала большая доля самобичевания, что-то вроде: «Пусть все мои друзья отвернутся от меня, пусть я буду неправильно понят и мои действия неверно истолкованы; я буду молча страдать».
Но само по себе страдание было подлинным. Мне совсем не хотелось встречать давних друзей, трусливо или вызывающе отворачивающихся от меня. Мне отнюдь не нравилось читать своей группе письмо, в котором меня называли шарлатаном и вором. Я сказал, что каждый должен сам принять решение. Они могли остаться со мной, но имея в виду, что я был один, без руководства и обучения; они могли присоединиться к группе Успенского и больше никогда со мной не встречаться. Их ответ бальзамом пролился на мои раненые чувства, поскольку почти все объявили о своем доверии мне.
Я попытался дать понять, что их решение должно основываться не на вере в меня или недоверии к Успенскому, но на понимании принципов Работы. Я не хотел влиять на них, объясняя причины своего неповиновения Успенскому. Для меня они были очевидны: необходимость выбора между статичным и динамичным отношением к духовной жизни, между подчинением и творчеством. Как бы я ни был недоверчив к самому себе и своим побуждениям, я считал, что лучше рискнуть всем, чем ничего не делать.
От группы я ожидал горячих обсуждений, неразберихи и поисков. Но реакция была минимальной. Они не могли понять, насколько серьезным и болезненным был для меня разрыв отношений между учителем и учеником, которые продолжались двадцать три года. Из моей группы Успенского видело всего несколько человек, и лишь единицы были постоянными членами его группы. Я был потрясен, осознав, что теперь эти люди безоговорочно зависят от меня. Я брал на себя ответственность за духовное развитие более сотни мужчин и женщин, с ужасом осознавая собственное несовершенство.
Несмотря на мой разнообразный опыт, я чувствовал себя несмышленышем в духовных проблемах. Помню, как однажды в Лайне, в ту ночь, когда мне открылся подлинный Беннетт, Успенский сказал: «Вы и мадам похожи. У вас обоих юные души. У вас нет опыта неоднократной жизни на этой земле». Он говорил о своей теории Вечного Возвращения, которую многие из его учеников воспринимали буквально. Я не был особым ее приверженцем, хотя и считал, что она содержит частицы истины. Моя жена принимала ее как наилучшее объяснение того, что в какой-то прошлой жизни она уже прожила эту жизнь. Успенский имел такое же убеждение относительно себя, поэтому, казалось, что должна быть какая-то субстанция для объяснения «Я уже здесь был», опыта, описываемого столь многими людьми.
Большим преимуществом теории Успенского о вечном возвращении было то, что она не содержала огромного количества нелепых представлений о наивной реинкарнации в распространенном ее понимании. Насколько я могу судить, опыт «Я уже здесь был» не может относиться к другой жизни в другое время и в другом месте. Более того, вера в реинкарнацию отрицает влияние наследственности на предназначение человека. Мне было ясно, что дети и родители соединены органической связью, подчиняющейся естественным законам и необъяснимой в терминах «предшествующей жизни».
В то время я считал, что опыт углубляется и зреет, и этот процесс не зависит от времени, то есть от «до и после». Несколькими годами позже мои исследования в геометрии и физике привели меня к расширению моих представлений о высших измерениях, и я ввел третий вид времени, который назвал Гипарксис. Это измерение связано с глубиной и качеством существования, которое я определил как «способность быть».
Качество зрелости практически невозможно выразить в словах. Мы узнаем его в греческой трагедии и в произведениях великих поэтов. Шекспир вкладывает слова о нем в уста Эдгара из «Короля Лира»:
“Люди должны претерпеть движение сюда и обратно. Все, что они приобретают, – это зрелось. Продолжай, Глостер. И это верно.” Я теперь оказался лицом к лицу с реальностью, и не было теории, которая могла бы поддержать меня в той ответственности, которую я на себя взял. Я осознавал разницу между опытом и зрелостью. Эдгар, окруженный слабыми, слепыми и сумасшедшими, хотя и молодыми людьми, единственный, кто обладает зрелой душой в трагедии, и за ним остается последнее слово. Гурджиевские слова, обращенные ко мне в 1923 году: «У тебя слишком много знания, но без Бытия знание бесполезно”, – вернулись ко мне. Мне было сорок восемь лет, и, согласно видению, бывшему мне на Скутарском кладбище, я не достигну своего истинного предназначения, пока мне не исполнится шестьдесят лет, и это будет только начало.
Истинное предназначение или неистинное, но пути назад не было, и летом 1945 года работа в Парк Студио достигла огромной интенсивности. В то время мы регулярно трудились в саду Примрозы Кодрингтон. Вокруг были пышные сады, некогда окружавшие дома, разрушенные бомбами на Ословской площади. Мы купили кур и выращивали овощи. Частые встречи, совместный тяжелый труд, на фоне мира, пришедшего в Лондон по окончании войны с немцами, вызывали во всех нас чувство обновления, новой и полной надежд жизни, распространения и процветания работы. Но несмотря на то что внешне дела шли хорошо, я втайне тревожился, недоумевая, куда все это может меня завести.
В конце июля с группой в тридцать пять человек я отправился в третий и последний поход в Лэнгдал. Хотя война с Германией окончилась, японцы, казалось, были обречены сражаться до худшего и горького конца. Один из членов нашей группы был участником Потсдамской конференции в июле 1945 года. Он приехал на семинар с мрачными прогнозами насчет России, которые подтверждали все предсказания Успенского. Мы сожгли все мосты общения со Сталиным, и всякая надежда на дружеские отношения после войны была потеряна.
На четвертый день нашего пребывания в Лэнгдале пришло сообщение о сбрасывании атомной бомбы на Хиросиму. Я был буквально раздавлен. Я имел некоторое представление об атомных исследованиях. Я отказывался верить, что это реализовано на практике. В одной из публичных лекций о будущем угля я опрометчиво заявил, что расщепление атомного ядра столь же неуловимо, сколь незаметна игла в стоге сена. Мое нежелание поверить в эту возможность проистекало из более глубокого неприятия того будущего, которое ожидало человечество.
И вот оно настало. Ужасные следствия этого события открывались мне по мере того, как я слушал утренние сообщения по радио. На наших глазах приходил конец целой эпохе, которая продолжалась два с половиной тысячелетия – эпохе разума и уверенности в человеческой мудрости. С этого времени хозяином человеческой судьбы становилось безумие. Так было, я хорошо это понимал, но не мог поверить, что не оставалось надежды на спасение, не оставалось выхода.
Раздумывая над всем этим, я шел среди вереска и орляка, как вдруг значение нашей работы предстало передо мной в новом свете. Она станет предшественницей тех действий на земле, которые смогут противостоять ужасающим последствиям атомной бомбы. Я сказал об этом собравшейся группе, шаг за шагом разворачивая перед ними события, случившиеся в мире в этом веке. Я сказал, что уверен, что через десять-пятнадцать лет, а к середине девяностых уж точно, в мире проявится воздействие той великой работы, фрагмент которой мы видим сегодня. Наша задача – подготовиться. До этой поры наше Учение было скрыто и известно лишь единицам. Пришло время сделать его всеобщим достоянием. Настанет момент, когда главной потребностью станут люди, способные обучать остальных. Наша задача сейчас- научиться работать группой, и я надеялся, что мы займемся этим по возвращении в Лондон.
Наше пребывание в Лэнгхалле вовсе не было мрачным, как это может показаться из моего описания. Это был наш первый послевоенный выезд. В городах еще действовала карточная система на получение продуктов питания, но на отдаленных фермах это осталось только на бумаге. Джордж Корнелиус, имевший репутацию человека, могущего достать все что угодно, ухитрился купить целого ягненка. Мы зажарили его целиком и устроили настоящее пиршество в холмах в один из тех чудесных пасмурных дней, которые столь привлекательны в стране озер. Конец войне, конец старому режиму, мы с уверенностью смотрели в будущее, верили, что приобретем Кумб Спрингс и начнется новая эра.
В центре наших сегодняшних планов стоял Кумб Спрингс, но меня вновь сильно тянуло на восток. Не зная определенно зачем, я отправился в Школу Восточных Наук, чтобы разузнать, нет ли возможности изучать тибетский язык. Там я познакомился с китайским ученым, мистером By, много лет прожившим в Тибете. Его интересовал турецкий язык, и мы заключили соглашение. Раз в неделю я приходил на урок тибетского в Школу, и раз в неделю я занимался с ним турецким частным образом. Мы представляли собой довольно странный альянс англичанина, обучающего китайца турецкому и учащего у него тибетский.
Жена решила присоединиться ко мне, и 9 октября мы принялись за работу. Я до сих пор не могу понять, почему я решил выучить тибетский. Говорить на нем легко, но письменные формы баснословно сложны. Прошло пятнадцать лет, в течение которых мне лишь дважды представился случай использовать мои скромные знания тибетского.
Новый год мы встречали полные надежд и готовые ко всему. В целом наши ожидания сбылись. Я зарабатывал приличные деньги, работая управляющим директором Компании Угольных пластмасс. Британская Исследовательская Ассоциация по утилизации угля канула в Лету. Контракт по покупке Кумб Спрингс был подписан,, и деньги собраны. Мы работали над созданием нашего нового института. Предлагалось множество названий. В конце концов я предложил, чтобы мы выбрали название с минимальной смысловой нагрузкой, неудобоваримое в произношении, чтобы оно употреблялось как можно реже. Таким образом я хотел подчеркнуть, что Институт – всего лишь внешняя форма, а внутреннее содержание приходит из работы наших групп. Выбранное нами название «Институт Сравнительного Изучения Истории, Философии и Наук, Limited» вполне отвечало нашим необычным требованиям.
Возвращение в Кумб Спрингс было намечено на 6 июня. Я хотел отметить там мое сорокадевятилетие. Нужно было выбрать первых жителей. Многие из группы хотели бы там поселиться, но по желанию моей жены первыми стали в основном семейные пары. Кроме нас были выбраны, или, точнее, выбрали себя сами еще четыре семьи. Один муж передумал, но в последний момент его жена решила, что приедет одна. В первой группе было двенадцать человек. Некоторые их нас жили неподалеку от Парк Студио, поэтому отъезд 6 июня стало настоящим событием. Мисс Кейт Вудвард, позже ставшая одним из столпов Кумба, привезла трейлер вместе с машиной, и мы погрузили в него курятник и с десяток кур под попечительством Элизабет Майал и Джорджа Корнелиуса. Куры настойчиво несли яйца во время переезда, и наш трейлер вызывал всеобщее веселье желтыми брызгами. Джордж пришел в восторг, услышав, как один из грузчиков разговаривает на жаргоне кокни. Мы все были взбудоражены в тот день, ведь впервые у нас появилось собственное место, которое мы могли использовать для создания духовного центра.
Памятуя о Prieure, я был озабочен необходимостью все больших усилий: ментальных, физических и эмоциональных. В самый первый вечер, когда мы буквально падали с ног от усталости после переезда, я принялся мыть стены, и все присоединились ко мне и мыли до полуночи. Был четверг, и я объявил, что мы будем в субботу, восьмого, праздновать день рождения. Мы пригласили всю старую группу, человек сорок пришли с детьми. Мэри Корнелиус, отвечавшая за угощение, была в отчаянии. У нас не было прислуги, и все дружно принялись за работу. Мы находились в радостном возбуждении от новой жизни. Мы договорились не разговаривать за едой. День начинался с похода в Спринг Хаус и купания в ледяной воде.
Моя мать жила вместе с моей единственной сестрой, миссис Винифред Юдейл. Всю жизнь она провела в делах, но теперь была прикована к постели, перенеся в прошлом году удар. Вскоре после нашего переезда в Кумб я смог взять ее к себе и, кроме поездок к врачу и в дом к моей сестре, она оставалась рядом со мной до самой смерти. Одна из первых членов нашей общины, Ольга де Ноттбек, помогала ухаживать за ней в последние дни.
В августе в Кумб Спрингс состоялся первый семинар. Его темой я избрал «Бытие и Сознание». В нем приняло участие около сорока человек, и каждый день с раннего утра и до вечера мы работали под палящим солнцем жаркого лета 1946 года. Мы снесли лабораторию, построенную на теннисном корте. Каждый день мы часами чистили и выгребали пыль. Для многих это были первые физические усилия в жизни. Каждый вечер мы собирались и долго обсуждали различные аспекты темы «Бытие и Сознание». Некоторые из участников имели опыт различных состояний сознания, достигаемых с помощью физических усилий. Некоторые были напуганы и не желали работать. Эффект был усилен двухдневным голоданием без ослабления физической работы и ментальных упражнений.
Во всем этом не было ничего оригинального, по большей части я копировал то, что испытал в Prieure под другим чудовищно жарким солнцем. Для приехавших учеников этот опыт был столь же новым и ошеломляющим, как и для меня двадцать три года назад. Если бы я не прошел через него сам, я никогда бы не осмелился поставить такую задачу перед остальными.
Семинар принес неожиданную пользу, установив тесные отношения между постоянными жителями Кумб Спрингс и теми, кто приезжал сюда только на еженедельные семинары. Я боялся, что маленькая группа будет изолирована от мира. Жизнь в Кумбе была столь напряженной, что не оставляла времени ни на какие внешние занятия. С июня по сентябрь 1946 года ни одна женщина не покинула пределы Кумба, кроме как по хозяйственным нуждам. День начинался в шесть часов, надо было подоить коз, покормить кур и приготовить завтрак. Мы часто ложились заполночь, заканчивая день, как это было в Prieure, ритмическими упражнениями Гурджиева. Тяжелый физический труд был только элементом в создании атмосферы настойчивого стремления. Мы с женой оба пытались создавать условия для самовоспоминания и самоизучения. Часто это принимало формы указания на слабости в такой форме, которая при любых других обстоятельствах воспринималась бы как оскорбление. Наиболее беспощадные атаки считались необходимыми для самоизучения, и никто не жаловался. Как я узнал позже, члены нашей общины, число которых увеличилось до двадцати, настолько переживали из-за своей несостоятельности, что боялись быть отосланными прочь.
Я чувствовал недостаточность физического усилия и эмоционального напряжения. Я искал способы держать в напряжении и ум. Думая об этом, я решил в сентябре 1946 года каждый день предлагать тему для медитации. Эти темы получили названия «злободневные темы». Каждый день в течение тысячи дней я взялся предлагать новую тему. Тему я объявлял рано утром, и члены группы звонили и узнавали ее. Задание заключалось в том, чтобы все время держать ее в уме и не допускать блуждания мыслей и полусонных дневных грез. Я выполнял эту задачу на протяжении всех непредвиденных и разрушительных событий, ожидавших нас в будущем, вплоть до истечения тысячи дней 16 мая 1949 года. Не знаю, имело ли смысл это усилие. Для меня это было актом суровой самодисциплины, а для других – подчинением собственных чувств направлению и цели. У таких практик есть и другая сторона, о которой надо знать. Они могут легко перерасти в то, что Гурджиев называл «работой во избежание работы», то есть совершение легко выполнимых усилий, которые скрывают от человека действительно необходимые для него жертвы. Это представляет собой серьезную ловушку в религиозной жизни и в поиске духовных ценностей. В ее худшей форме она выливается в следующую фразу: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я не такой, как все». Но и в лучшем виде это опасный самообман. Я видел много духовных движений, тормозивших и, наконец, останавливающихся из-за привыкания к регулярным молитвам, медитациям, постам, самобичеванию, а также к почитанию и милосердию. Все это с легкостью становится как бы дымовой завесой, скрывающей подлинную цель, которой является глубоко укоренившийся эгоизм и самолюбие, в отношении которых не предпринимается никаких усилий по искоренению.
Именно поэтому я сомневаюсь, принесли ли различные духовные упражнения какую-либо пользу мне и остальным. Они имеют целью создание точки опоры для нашего стремления к совершенству, но легко могут быть замкнуты на себе и стать самоцелью.
Духовная жизнь гораздо тяжелее материальной, ведь у последней есть мощнейший союзник – самолюбие. Занимаясь научной работой, я хорошо понимал, насколько мое стремление к успеху диктовалась желанием хорошо выглядеть в собственных глазах. Я все еще занимался разнообразной общественной деятельностью. Я оставался почетным казначеем Парламентского и Научного Комитета и с интересом участвовал в его работе. В декабре 1946 года мы опубликовали доклад «Университеты и рост научной мощи человека». Перечитывая этот доклад спустя четырнадцать лет, я понимаю ценность сотрудничества ученых и парламентариев, которую претворял в жизнь комитет. Наше предложение добавить 10.000.000 фунтов ежегодно на высшее образование было расценено как дикая экстравагантность. Сегодняшняя цифра в 43.480.000 критикуется как явно недостаточная. Мы живем в мире, где редко не оправдывает себя масштабный подход к проблемам будущего.
Я чувствовал, что перестаю быть полезным в Парламентском и Научном Комитете, и хотел посвятить больше времени работе над нашим Институтом. В 1948 году я вышел из членов комитета.
Наша жизнь в Кумб Спрингс была полна и разнообразна. Я написал пьесу, основанную на истории сожжения Шартрезского Собора в 1187 году и его восстановления усилиями всего предместья. За осень мы отрепетировали пьесу и представили ее на новогоднем празднике в Кумб Спрингс. В ней я пытался отразить силу человеческой общины, когда она пытается достичь общей цели, стоящей над всеми личными устремлениями. Пока я писал эту пьесу, ко мне пришло убеждение, что Дева Мария начала влиять на судьбы человечества с началом второго тысячелетия христианской эры. В восстановлении собора я пытался передать чувство любви, зарождающееся между Святой Девой и человечеством.
Моя мать смотрела пьесу, сидя в инвалидном кресле и радуясь впервые за много дней. На следующей неделе с ней случился повторный удар, и ее полностью парализовало. Она едва могла говорить, но ясно давала понять, как тяжело ей выносить свою беспомощность и как ей хотелось бы умереть. Возможно, моя жена понимала ее внутреннее состояние лучше, чем кто-либо другой, и подолгу сидела в ее комнате, успокаивая и развлекая ее. Их отношения больше походили на отношения сестер, чем свекрови и невестки. Мать спрашивала ее: «Полли, еще долго?», а она отвечала: «Нет, не очень».
Только когда ее жизнь приближалась к концу, она начала впервые проявлять интерес к моим духовным поискам. Я никогда не мог понять, почему она столь рьяно относилась к моим внешним достижениям и так мало заботилась о моей внутренней жизни. Она недолюбливала Успенского, называла его «Твой Купенский». Кроме детей ее интересовали история и биографии; ее интеллектуализм был присущ Новой Англии 90-х годов прошлого века, но выглядел довольно странно в 40-х годах двадцатого. Она обладала беспримерным мужеством и преданностью, была справедлива и ненавидела притворство и лицемерие. Пожертвовав всем для благополучия своих троих детей и нежно любя нас, она избегала всяких внешних проявлений своих чувств, например, беспокойства. Я с трудом пробирался за барьер ее интеллектуальной позы.
Она попросила меня объяснить, что я понимаю под вечностью и что происходит с душой после смерти. Я был взволнован и тронут. Я изо всех сил постарался объяснить просто и показать ей, что ее отношения с отцом и детьми никогда не прервутся. В забытьи она принимала меня за отца, которого не переставала любить, хотя прошло уже тридцать лет после его смерти.
Она умерла в Кумб Спрингс. Я был с нею за полчаса до конца и вышел пройтись. Когда я вернулся, ее дыхание прекратилось. Я сел рядом с нею и долго сидел так, впервые в жизни принимая некое мистическое участие в состоянии умершего человека. Я чувствовал ее замешательство, и мной овладела сердечная печаль, не имеющая никакого отношения ко мне, моему прошлому или будущему. Это была печаль ее осознания, что в жизни она доверялась неправильным вещам, и ей придется вновь жить и учиться жить и узнать свое подлинное предназначение.
Неожиданно связь оборвалась. Печаль исчезла, а ее место заняла умиротворенность. Только спустя два года я приблизился к понимаю этого опыта.
Оглядываясь назад, на смерть моей матери, я вижу связь этого события с началом моих изменений, которые несколькими месяцами позже привели к столь потрясающим переживаниям, что они изменили направление моей жизни.
С начала 1947 года я ввел практику утренних упражнений, в которых могли принимать участие как постоянные жители Кумба, так и гости. Нескольким членам своей группы я посоветовал начать упражнение повторения, которому меня научил Успенский. Мы регулярно работали над гурджиевскими ритмическими движениями и ритуальными танцами. Жизнь в Кумбе становилась богаче и разнообразнее, но некоторые из старой команды начинали чувствовать напряжение. Интерес к нашей работе возрастал; весной 1947 года на мои еженедельные лекции в Лондоне пришли люди, действительно серьезно относящиеся к идеям и методам системы Гурджиева.
В это время я подписал контракт на издание «Основ естественной философии», позже ставшей первым томом «Драматической Вселенной». Я думал, что она готова к публикации, но пришлось снова и снова ее переписывать. Я показал издателям расшифровку стенографической записи моих лекций под названием «Кризис в человеческих делах», и они решили, что это должно быть опубликовано в первую очередь. Мисс Рина Хендс, сделавшая расшифровку, согласилась также и отредактировать записи. Впоследствии книгу очень хвалили за ясность и четкость изложения, и в этом гораздо большая заслуга Рины, чем моя. Для меня было важным шагом решиться на публикацию, поскольку это была первая книга с описанием некоторых черт системы Гурджиева. Впервые появлялась и моя концепция Вечности как хранилища потенциальностей, и материальных, и духовных. Более точно можно сказать, что через понимание Вечности мы можем узнать, что дух и материя различаются только формой сознания.
Я испытывал особое состояние летом 1947 года. Все шло отлично. Деланиум, новый угольный материал, который мы разрабатывали в наших научно-исследовательских лабораториях, оказался весьма многообещающим. Совет директоров главной компании решил незамедлительно приступить к его выработке на коммерческой основе, и для этих целей в Хэйесе была приобретена отличная фабрика. Кумб Спрингс процветал. Мои лекции посещались большим количеством людей, чем когда бы то ни было. С женой я был очень счастлив; она обрела в Кумбе сферу применения своим способностям пробуждать и вдохновлять людей. Она взяла под свою опеку молодого канадского врача, француза по происхождению, Бернарда Кортни-Майерса, героически прошедшего через французское сопротивление, который сумел спастись, испытав все ужасы концентрационных лагерей. Бернард приехал в Кумб и вместе с другими молодыми людьми, в особенности с Элизабет Майал, составил кружок вокруг моей жены. В целом наша маленькая община была хорошо сбалансирована. Возраст постоянных членов колебался от двадцати до семидесяти лет, были представлены несколько рас. К нам приезжало много гостей, проводивших с нами некоторое непродолжительное время, чтобы познакомиться с нашей работой. Так что, по всему наше предприятие выглядело успешным, количество членов росло, велась интенсивная научная и психологическая работа.
В этих внешне многообещающих условиях я был полон скверных предчувствий. Я был один и знал, что мои возможности помочь и направить людей ограничены уровнем моего понимания и моими собственными недостатками. Я вновь вернулся к мысли найти Гурджиева. Корнелиус направился по делам в Париж, и я попросил его навести справки. Он вернулся уверенный, что в Париже нет человека с таким именем, он запросил французскую полицию через американское посольство, и, так как Гурджиев был русским эмигрантом, сведения о нем должны были отыскаться. Поиски, проведенные Бернардом Кортни-Майерсом, были не более успешными.
Наступил август 1947 года, а с ним и второй семинар в Кумб Спрингс. Некоторые из напуганных прошлогодним опытом уехали. Другие, новенькие, надеялись узнать что-нибудь о «сверхусилии». Я сам видел во всем дурные предзнаменования, особенно остро ощущая свою несостоятельность.
Темой семинара я избрал «Идеальную общину». Мы к тому времени обсуждали необходимость покинуть Англию, где разрушения, произведенные войной, казались непреодолимыми. Наиболее перспективным местом казалась Южная Африка, и мы разрабатывали ту форму, которую должна иметь духовная община.
Сложилось так, что семинар принял совсем иное направление. Мы решили покрасить дом и очистить сад от сорняков и разросшейся ежевики. Как и год назад, у нас были дни поста. Но направление обсуждения не принадлежало мне, будто некая высшая сила руководила и направляла его. С каждым днем тема вырисовывалась все более и более ясно, хотя мы не могли четко определить ее. Она касалась всего процесса жизни на земле – Биосферы. Мы поняли, что человек занимает в ней особую нишу, но не может полностью ее заполнить без помощи, приходящей из-за земных пределов.
Тем летом мы собирались под огромным дубом, стоящим посередине лужайки и накрывающим ее раскинувшимися ветвями. Этот дуб, вместе с еще несколькими сохранившимися деревьями, был посажен, когда кардинал Волей строил Спринг Хаус в 1513. Его ветви, дающие тень более тысячи квадратных ярдов, делали его одним из красивейших дубов Англии. Редко кто из гостей Кумба не обращал внимания на его величие.
В последний день семинара мы сидели под дубом и смущенно, колеблясь, пытались высказать то, что испытывали. Это был странный день, и впоследствии ни один из пятидесяти присутствовавших человек не смог вспомнить то, что говорил. Мне припоминается, что мы все видели жизнь на земле в виде женского Существа, проходящего через великие циклы плодовитости и бесплодия в его духовной восприимчивости. Когда наступает момент плодовитости, космическая мужская Сила снисходит на землю и оплодотворят жизнь новой духовной мощью. От этого акта рождается новая Эпоха. Не только человек, но все живое принимает участие в этом ритуале.
Рассказанная таким образом история может показаться полетом воображения. Но те, кто разделили этот опыт однажды в летний полдень, не сомневаются в его реальности. С того дня никто из нас не мог говорить о нем, и даже я через тринадцать лет не могу заставить себя описать его целиком. Вдобавок ко всем странностям, один из присутствующих, Джеральд Дэй, попытавшийся описать наше обсуждение полностью, безвозвратно потерял свои рукописи до того, как они были скопированы.
По мере приближения семинара к концу нам казалось, что мы возвращаемся из мира тайн и чудес. На две недели Кумб Спрингс превратился в место тайных собраний, а мы словно бы дали клятву не разглашать то, что увидели и услышали. В память о том дне, когда на мгновение была приподнята вуаль, скрывающая сокровенные тайны, я посадил несколько папоротников и пообещал себе, что, пока я живу в Кумбе, они не умрут. Проходя мимо них, я часто вспоминал это и думал, не было ли это сном. Но необычные события того года продолжались.
Пятнадцатого сентября я был готов прочесть первую из серии лекций в Денисон Хаус, около станции Виктория. Слушателям моих весенних лекций было предложено написать, почему они хотели бы продолжать обучение. Я получил восемьдесят писем и был поражен, увидев, что мои сомнения и колебания никоим образом не отразились на аудитории. Я пытался подготовиться к первой лекции, но все время оказывался перед чистым листом бумаги. Утром лекционного дня я не приблизился к цели. Жену волновало состояние Бернарда. Он страдал чувством вины за какие-то промахи, допущенные им во время войны, которые я приписывал его больному воображению. Я было заговорил с ним, но увидел, что это бесполезно. Я сам был беспокоен, даже взвинчен и решил после ланча пройтись в Уимблдон-Коммон. Это место было полно воспоминаний, ведь я родился неподалеку и ходил в школу при Королевском Колледже, расположенном на его юго-западе, я много бродил там в молодости с моей первой женой, а затем нередко укрывался там от хлопотливой жизни в Кумб Спрингс.
Обычно я шел лесом, но тут вышел на открытую дорогу и вскоре уже входил в ворота моей школы. Я не был в ней с 1917 года, как раз тридцать лет. Интересно, почему. Я миновал лаборатории, игровое поле, на котором я два года играл как капитан нашей команды регбистов. В полузабытьи я двинулся к памятнику. Он напомнил мне скульптуру Лизикрата в Акрополе, как вдруг я понял, что это мемориал, посвященный первой мировой войне. Я остановился, читая имена. Одно за другим я читал имена ребят, с которыми играл в регби или крикет. Едва ли уцелел хотя бы один. Теперь я понял, почему никогда не возвращался сюда: я не мог примириться с потерей стольких близких друзей.
Я стоял один на большом игровом поле, и все же больше я не был один. Все мои приятели были рядом, живые, подвижные. Нас всех охватило Великое Присутствие. Через меня прокатилась волна огромной радости. Это выходит за пределы всякого понимая, но все же это так: преждевременная смерть не всегда означает катастрофу. Смерть не разрушает потенциальностей. Я, совершенно иррационально, был убежден, что с неба сошел ангел, чтобы открыть мне эту истину.
Я возвращался через Коммон, и ангел все еще был со мной. Я понял, что должен говорить в этот вечер о смерти, о том, что она разрушает, а что нет.
У дверей Кумба меня ждала Элизабет: «Вас ждет миссис Беннетт». Моя жена стояла на ступеньках: «Ты немедленно нужен Бернарду». Я прошел в его комнату. Он лежал на кровати, его лицо кривили болезненные гримасы и он жалобно стонал. Я стал в изголовье и через несколько мгновений сказал: «Бернард, тебе незачем страдать – с ними все в порядке». Он успокоился, расслабился, глубоко вздохнул и заснул. Я знал, что сказал ему то, что было ему необходимо, и он поверил в это.
В этот день в Кумбе побывало некое Великое Присутствие. Должно быть, это был ангел или даже более высшее Существо. В тот вечер я выступал в Денисон Хаус, но говорил не я, и не своим голосом. Весь день я пребывал в убеждении, что каким-то необъяснимым образом мальчишки, учившиеся со мной в школе и погибшие на полях сражений, живы, как и я. Этот опыт не был похож на то, что испытывал я, будучи на волоске от смерти. Это было не личное переживание, не непосредственное общение с ними, я не слышал голосов и не видел, где и как они живут. Но я осознавал, что их потенциальности сохранились нетронутыми и в том же количестве.
Не помню, что я говорил тем вечером, не сохранилось ни одной записи, но впоследствии ко мне подошли родители, потерявшие на войне сыновей, и сказали, что с них как бы сняли всю тяжесть потери.
На следующий день все мы в Кумб Спрингс испытывали особое ощущение смирения и благоговения. С течением времени я заметил, что и некоторые другие осознали Великое Присутствие и Благословение, сошедшее на нас.
Через несколько недель рано утром я купался в реке, когда пришел мой племянник и рассказал, что умер Успенский. Я знал о его возвращении в Англию и о том, что он болен. Я послал ему письмо с просьбой о встрече, но ответа не получил. И вот он умер.
Часом позже меня позвали к телефону. Звонил Джордж Корнелиус из Нью-Йорка. Он сказал мне о смерти Успенского и о том, что у него письмо, где сказано, что я могу встретиться с Жанет Коллин-Смит, женой Родни Коллина, одного из ближайших соратников Успенского. Я не очень хорошо был с ней знаком, даже не знал, где она живет. Я мгновенно нашел ее адрес и тут же отправился в Лондон. Она встретила меня в дверях своего дома, так же, как и я, пораженная письмом, ведь ей, как и остальным, было запрещено говорить со мной. Она рассказала мне о последних часах Успенского. В тот день я чувствовал к нему великую любовь, которой никогда не ощущал при его жизни. Тем не менее, я прекрасно осознавал разницу между смертью после долгой жизни на земле и преждевременной кончиной. Потенциальности Успенского реализовались в свое время и подверглись необратимой трансформации. Во всем этом было нечто, чего я не мог и не должен был пытаться понять. Завершился большой двадцатисемилетний цикл моей жизни. Я был полон любви и благодарности к Успенскому, но не стал ему ближе.
Глава 19
Южная Африка, Сматс и африканцы
Мне шел пятидесятый год. В Институте постоянно училось более двухсот студентов. Меня приглашали читать лекции по психокинетической философии не только в Англии, но и во Франции. Жена чувствовала себя счастливее, чем когда-либо. Она полюбила Кумб Спрингс, найдя там в конце концов реальную работу себе по силам. Ей было семьдесят два, и ее не волновало, что люди думают о ней, поэтому она говорила и делала только то, что доставляло ей удовольствие. Порой результаты оказывались изумительными, порой гибельными, но скучными – никогда.
Я с легкостью совмещал лекции, занятия и работу в саду в Кумб по выходным с интенсивными исследованиями в лабораториях в Баттерси. Мы готовили коммерческое производство деланиума, и я надеялся, что его финансовый успех позволит мне отплатить за ту личную доброжелательность и доверие, которое мне оказывал председатель и другие директора компании.
Внешне все складывалось благоприятно, но я был неудовлетворен и неуверен в себе. Казалась неизбежной третья мировая война. Никогда в истории человечества накопление вооружений не предотвращало войну, а человеческая натура не могла противостоять искушениям страха, ревности и личных амбиций. Зачем нам было оставаться в столь опасном месте? Успенский был мертв, Гурджиев исчез. Ничто не держало нас в Европе.
Наши помыслы и обсуждения были направлены на символ Ноева ковчега. Мы многое узнали и доказали, что можем жить общиной. Будет ли правильно скрыться в каком-нибудь отдаленном месте, устроить там независимую жизнь и переждать надвигающуюся бурю, чтобы затем вернуться и помочь строительству новой цивилизации?
Нас притягивала Южная Африка по многим причинам. Двое наших друзей, Сесил Левис и его жена Ольга, собрались эмигрировать и взялись обследовать возможности Родезии и Южной Африки и прислать нам доклад. Сесил был летчиком и писателем. Он решил купить небольшой самолет, долететь до Африки, а затем продать. Неделю спустя после смерти Успенского его маленькая крылатая машина сделала круг над Кумб Спрингс и взяла курс на юг, мы смотрели на них так, словно они отправляются открывать новый мир.
Вскоре после этого мне представилась возможность самому поехать в те края. В Powell Duffiyn решили вложить часть капитала в заморские угольные предприятия, и, когда я предложил отправиться туда и привести им подробный отчет, они с радостью согласились. Другой наш друг, Кейт Торберн, также заинтересовался Южной Африкой как директор крупной финансовой организации. Он нанял самолет и предложил мне лететь вместе с ним. Отправление было назначено на начало января 1948.
Тем временем через Бернарда Кортни-Майерса я договорился о чтении лекций в Париже. У него был широкий круг друзей, большей частью связанных с движением французского сопротивления генерала Леклерка. Для определения темы я использовал слово»психокинетический». Одна лекция была о психокинетизме психоанализа. Я намеревался вылететь в Париж утром в день лекции, но туман держал меня на земле. По телефону я продиктовал лекцию доктору Годелу, согласившемуся меня заменить и прочитать лекцию по записи разочарованным слушателям. Несмотря на такую неувязку, на следующую лекцию о практике психокинетизма пришло много народу. Благодаря доброжелательному отношению одного из профессоров, обе лекции читались в школе Политических наук.
В Париже я самолично наводил справки о Гурджиеве, но никто ничего о нем не слышал. Это было удивительно, ведь его очень хорошо знали в городе, где он прожил двадцать пять лет.
Лекции усиленно обсуждались, меня спрашивали, не открою ли я Французское отделение Института, но тогда я ничего не мог им ответить, так как через несколько недель улетал в Африку.
Мы летели на переоборудованном ланкастерском бомбардировщике, очень быстром для того времени, но и крайне неудобном. У Кейта были дела в Судане, и на несколько дней мы остановились в Хартуме. Мне удалось съездить в Омдурман и увидеть собственными глазами слияние Белого и Голубого Нилов. Город Омдурман произвел на меня глубокое впечатление. Более четверти века прошло с тех пор, как я был на полуночной молитве в храме Св. Софии в Константинополе. Я почти позабыл о том воздействии, которое производит на меня исламская религия, но здесь, в Омдурмане, оно с новой силой нахлынуло на меня. В миллионном городе должны были быть живые люди, но я не встретил ни одного. Полуденная молитва потрясла меня. Жизнь в городе замерла. Большинство мужчин отправились в мечети, но тысячи вытащили свои коврики и семь раз падали ниц на берегах Нила, на улицах, везде и повсюду. То же произошло и вечером. Раньше я никогда не видел города, жизнь в котором управлялась бы религиозными порядками.
Стоя на мосте через Нил, там, где сливаются воды из Эфиопии и Уганды, я перенесся в прошлое, возможно, более отдаленное, чем времена древней Греции. Бадарские колонисты, спустившиеся в Египет с гор восемь тысяч лет назад, должны были проходить через это место. В те времена, задолго до первых летописей, подобные миграции, вероятно, проходили повсеместно: так человек входил в обещанный ему мир материальной мощи. «Чего мы достигли за восемь тысяч лет, – спросил я себя, – что значило бы больше, чем искренняя вера этих безграмотных суданцев? У них нет радио, нет машин, они не знают о современных изобретениях, но они находятся ближе к Богу, чем мы».
Я возвратился в Хартум, маленький искусственный мирок, созданный вокруг правительства и деловых контор британскими правителями Судана. Здесь жили хорошие люди с чувством долга и справедливости. Большинство из них любили местных жителей и, думаю, были любимы в ответ. Но ни те, ни другие не могли понять ценностей друг друга. Я так долго мечтал побывать в Африке, поскольку несколько встреч с африканцами убедили меня, что на этом континенте сохранилось нечто, утерянное в остальном мире. Вспоминаю одного необычного человека, Трэси Филиппса, с которым я познакомился в Истамбуле, и его рассказы о силах экстрасенсорного восприятия, которые он наблюдал в Центральной Африке. В то время я подозревал, что в северном полушарии нашей планеты цивилизация погибнет, а на юге возникнет новая цивилизация. Она станет первой цивилизацией Новой Эпохи, в которой соотношение рас будет иным, чем в наше время. Должен заметить, что с течением времени я все меньше и меньше склонялся к этому прогнозу.
Мы отправились в Найроби, где вновь у Торберна несколько дней были дела, а я был предоставлен самому себе. В Найроби я чувствовал себя крайне неуютно. Куда бы я ни пошел, я встречал убегающих людей. Некоторые бежали от войны, другие – от социальных проблем или матримониальных скандалов. Не припомню другого места, которое наполнило бы меня такой печалью в отношении той жалкой, мелкой жизни, на которую обрекают себя люди, заботящиеся только о своей безопасности и удобствах.
Как только представилась возможность, я тоже сбежал. Взяв машину, я уехал на ферму навестить старого приятеля. Около Великого Ущелья, спускающегося на две тысячи футов и пересекающего долину, где не растет ничего, кроме кактусов и опунций, местность поистине изумительная. Моя поездка очень меня тронула, так как я понял, что упадничество Найроби не отражало судьбы всей Кении. Там жили и англичане, трудящиеся в поте лица, чтобы дать жизнь этой земле, и этот труд приносил свои плоды.
Затем я отправился в Национальный Парк и охотничьи заповедники. Вид дикого жирафа, огромных табунов зебр, гиппопотама в болоте и грифов на верхушках деревьев был новым и щекочущим нервы переживанием. Но ничто не может сравниться с моментом, когда мы встретили пятерых львов, гревшихся на склонах гор по бокам от дороги. Водитель сказал, что они никогда не нападают на машины, и я практически безбоязненно мог смотреть на них через открытые окна машины. Львы были так близко, что, протяни я руку, я мог бы до них дотронуться. Я наблюдал за огромными животными, мирно отдыхающими после ночи охоты на зебр, временами открывающих глаза, чтобы безразлично взглянуть прямо в мои. Я сказал себе: «Будь у меня вера, я бы мог пройти рядом с ними, не боясь, и они не боялись бы меня». Но я знал, что не обладаю такой верой, и, хуже того, мои побуждения обрести ее не совсем чисты.
Во время поездок по охотничьим заповедникам в Кении и других частях Африки я убедился в истинности того, о чем уже писал, но без особого чувства, в «Драматической Вселенной» (том II, с.310-11), а именно, что каждый род животных добавляет особый модус к переживанию всего опыта на земле. Если на земле исчезнут львы, вместе с ними уйдет нечто важное, необходимое биосфере, и если это будет наша вина, то нам придется заплатить за убийство. Делается много нужного и бескорыстного для спасения животных и растений, но даже те, кто занимаются этим, редко осознают, насколько это жизненно необходимо для выживания человечества. «Кто мечом живет, от меча и погибнет,» – предупреждение, касающееся большего, чем человеческая жизнь.
Я возвращался в Найроби через кофейные плантации и фруктовые сады и тем сильнее почувствовал нездоровую атмосферу города. Был июнь 1948 года, задолго до того, как начались проблемы, связанные с May May, и я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на Кикууса. Меня огорчала не расовая дискриминация или эксплуатация, а осознание, что я нахожусь среди людей, мужчин и женщин, которые не стоят лицом к лицу к жизни, как должны.
Я вернулся в номер в отеле и заперся там на двадцать четыре часа. Мой ум бился в агонии. А разве я тоже не убегаю? Чем я лучше любого из этих людей, считая себя таким умным, чтобы убраться из Англии до того, как придет беда?
В эту ночь я не спал и молился, чтобы я смог понять, как нужно поступить. Около двух часов утра шум от музыки и танцев подо мной прекратился. Постепенно все стихло. Вновь я ощутил то самое Присутствие, которое говорило со мной о смерти на школьном спортивном поле в Королевском Колледже несколькими месяцами раньше. На сей раз это было личное послание в виде инструкции: «Ты не должен оставаться в Африке. Твое место в Лондоне. Беда придет, не такая, как ты себе представляешь, но иная, и ты будешь в ее центре. Нет нужды строить ковчег, потому что не будет потопа. Задача, стоящая перед тобой, совсем иного рода, чем ты это себе представляешь».
То, что пришло, я выразил в словах, но это было послание без слов, но тем не менее, его значение было яснее слов.
Я почти сразу же заснул и проснулся спокойным и уверенным. Я не знал, могу ли я рассказывать кому-либо о том, что получил. Мне показалось, что послание было адресовано лично мне, и, если другие захотят создать в Африке колонию, я должен скорее помогать, чем отговаривать их.
На следующий день мы отправились в Родезию, где не произошло ничего заслуживающего внимания, затем мы поехали в Йоханнесбург. Благодаря рекомендациям Торньерна и некоторых других англичан, мне дали разрешение осмотреть множество шахт, изучить химический анализ, цены и структуры рынка, в действительности все необходимое для моего отчета. Поскольку поездка была рассчитана на две-три недели, я решил быстро объехать центральный и восточный Трансвааль, чтобы иметь представление о возможности создания колонии в какой-нибудь малодоступной долине.
Всего нас было пятеро: двое Левисов, двое Торнбернов и я. Миссис Торнберн была обездвижена из-за падения, которое привело к серьезному повреждению ее спины. Она не была с нами в нашей первой экспедиции к югу от подножья большего Базутоландского плато. Мы осмотрели хорошую ферму, выставленную на продажу, но земля была слишком дорогой и чересчур близко к главным дорогам, чтобы сойти за уединенную долину.
Мы вернулись и собрались все вместе в Дербене. Я чувствовал, что складывалась не совсем благополучная атмосфера. Наблюдалось некоторое волнение чувств, и изменение моих планов не способствовало улучшению положения дел. Мы были готовы отправиться в восточный Тансвааль, чтобы осмотреть местность, облюбованную Левисами. В Дербене у нас оставался один свободный день, и я предложил на время позабыть все наши разногласия и отправиться на пикник. Нам неоднократно рассказывали о красоте долины Умзимкулу у подножия Дракенбергских гор, и мы решили провести там день.
Мы наняли две машины и пустились путь. Я пишу слова «ущелье Умзимкулу» и не могу устоять перед искушением отправиться в прошлое и вспомнить этот чудесный день. Дорога, идущая вверх от Дербена к горам Дракенберга, должно быть, одно из самых зрелищных мест в мире. Мы проезжали через залитую палящим зноем африканского лета долину тысячи холмов, которая ведет из Дербена в Питермаритцбург, а затем направились вверх по склонам на две или три тысячи футов через мили и мили цветущих мимоз, запах которых проникал повсюду. Затем мы обогнули крутые утесы и въехали в ущелье Умзимкулу, где природа смешала всю растительность и в беспорядке разбросала ее среди скал.
Мы остановились на пикник. Я предложил провести один-два часа в медитациях над Блаженствами Евангелия от Матфея. Я всегда был убежден, что компиляторами, составлявшими Нагорную проповедь, руководила высшая сила, а Блаженства были для меня лучшим объективным тестом моего состояния. Мы разошлись в разные стороны и провели некоторое время в одиночестве, медитируя над каждым из Блаженств, а потом собрались и сравнили наши впечатления. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас шестерых, участвовавших в этом опыте в тот день, забыл, как постепенно изменялось наше состояние и как исчезали раздражение и размолвки. Несколько недель после этого наша группа жила и работала в полном согласии, и мы смогли договориться, какие шаги должны быть предприняты в дальнейшем.
По пути в Йоханнесбург мы проехали через Белфаст, самый высокогорный город в Южной Африке, расположенный на высоте семь тысяч футов над уровнем моря, а оттуда в Мачадодорп, всего на тысячу футов ниже. Там мы услышали о том, что в Долине крокодилов можно купить дешево несколько тысяч акров земли. К этому времени все примирились с моим решением не оставаться в Африке надолго, хотя я считал, что, если будет организована община, я стану ее частым гостем.
Левисы уже решили, где осядут. Торнберн хотел купить большой участок и сделать его часть пригодной для поселенцев. С этой мыслью мы отправились осматривать долину. Меня захватила красота Долины Крокодилов, лежащей двумя-тремя тысячами футов ниже высоких степей Мачадодорпа и Белфаста и связанной с ними Крокодиловыми водопадами, спрятанными глубоко в тропическом лесу, окружающем низкий вельд. Место показалось мне идеальным благодаря своей красоте, уединенности, богатой почве и достаточному количеству воды для того, чтобы стать домом для общины в несколько сотен семей. Я посоветовал купить землю, если Торнберна удовлетворит то, что верхние фермы в высоком вельде окупят его расходы.
Я не мог остаться надолго, так как должен был выполнить большую работу для Powell Duffiyn, и хотел сделать ее хорошо. Мне крайне повезло, и за десять дней я собрал необходимую информацию и осмотрел достаточное количество угольных шахт и предприятий химической промышленности Трансвааля и Оранского Свободного Государства, чтобы составить себе представление о том, что должно быть сделано.
До отъезда из Англии я написал премьер-министру Союза, фельдмаршалу Жану Сматсу, с которым я познакомился ровно тридцать лет назад в колледже в Кембридже, где он когда-то учился, а я поправлялся после ранения, будучи гостем главы колледжа. Он пригласил меня в гости. Я не хотел упускать такой шанс, поэтому полетел в Кейптаун как только понял, что могу рассказать ему о перспективах развития угольной промышленности. Я созвонился с его секретарем и был приглашен на следующее утро. Я оставил сигнальный экземпляр моей книги «Кризис в делах человеческих», который мои издатели прислали мне специально для подобных целей.
Я слышал, что Сматс был весьма низкого мнения о тех, кто не смог пешком взобраться на Гору-Стол, я взялся за это, предполагая, что дорога вряд ли будет более трудной, чем Пен-и-Гроес, ведущая к вершине Сноудона. Я выбрал подъем по солнечной стороне горы, обращенной к Бэй. Был жаркий солнечный день, и, оказалось, я даже не мог себе представить, насколько тяжелым может оказаться подъем. За пять часов я прорвался к вершине, взглянул на юг, туда, где была Антарктида, и спустился вниз, совершенно измученный, но подъем того стоил.
Сматс вернул мне книгу, сказав, что за ночь прочел ее. Он заметил: «Я совершенно согласен с вами, что мы сейчас переживаем великий кризис, и в общем я согласен с вашей теорией эпох. Но я не могу согласиться с вашим пессимистическим отношением к человеческой природе, процесс интеграции продолжается, несмотря на все противоположные свидетельства. Теперь рассказывайте, зачем вы приехали в Южную Африку».
Я ответил, что занимаюсь угольными исследованиями и что Powell Duffiyn послала меня для изучения возможных объектов для вложения денег. Я заметил, что, согласно моим сведениям, южноафриканские промышленники недооценивают возможности Трансвааля». Добыча золота поглотила все их внимание, и они не осознают, что в их руках находится самый дешевый в мире источник энергии. В течение по меньшей мере полувека Южная Африка может вырабатывать самый дешевый уголь благодаря его обширным и поверхностным залежам и имеющемуся у них подходящему оборудованию. Все, что делает Канада на Ниагарском водопаде, в Южной Африке можно сделать дешевле. Постройте карибскую дамбу и вложения капитала станут столь велики, что мощь Замбии не сможет противостоять Трансваалю. Южная Африка станет величайшим центром электрохимической промышленности в мире». Сматс перебил меня со словами: «То, что вы рассказываете мне, весьма ценно и интересно, кое-что для меня внове. Я хочу, чтобы вы рассказали об этом Хофмайеру. Это мой финансовый министр. Скоро я ухожу в отставку, но он остается и может воплотить в жизнь все эти проекты. Все, что мне остается, -дать им свое благословение».
Я принял это за намек и заговорил о своих личных мотивах, побудивших меня приехать, и, ссылаясь на свою книгу, сказал: «Я убежден, что надвигается великая опасность, от которой погибнет европейская цивилизация. Я с группой в двести человек хотел основать колонию в уединенной долине в Африке, где мы могли бы выжить и вернуться обратно после бури».
Сматс задал мне несколько вопросов и затем очень серьезно сказал: «Мой долг способствовать эмиграции, особенно из Англии, и я так и поступаю. Но вы и ваши друзья не обычные эмигранты. Мне кажется, вы неверно оцениваете ситуацию в мире. Вы полагаете, что в случае гибели европейской цивилизации что-то удастся сохранить. Я так не думаю. Европа является и будет, по крайней мере еще в течение столетия, средоточием надежд всего человечества. В Европе, включая и Британские острова, возникла древняя и очень стабильная цивилизация. Нигде в мире нет ничего подобного.
Недавно я был в Сан-Франциско, подписывал там Хартию Объединенных Наций. Начало положено превосходное, во многом более прогрессивное, чем Лига Наций, но и она не спасет мир от гибели. Только Европа может спасти мир. Какой толк переезжать в Южную Африку? Эта страна-младенец. Мы даже не начали расти. Все проблемы еще впереди. Еще сотни лет в Южной Африке не будет культуры. То же самое можно сказать и о Соединенных Штатах. Наиболее глубокое и горькое впечатление, которое я получил в результате моей поездки в Америку, касалось незрелости этой страны. Они стали мощнейшей державой в мире и вовлечены в мировую борьбу за власть. Но они еще не выросли для такой задачи, и в этом таится огромная опасность. Кризис в человеческих делах, на мой взгляд, состоит в том, что человечество прежде времени получило силы, которыми не может мудро распорядиться. Но эту проблему нельзя разрешить, спасаясь от нее бегством. Если вы чуть лучше, чем остальные, разбираетесь в проблеме, ваше место дома. Возвращайтесь и проповедуйте важность вашего европейского наследия».
В практическом аспекте его совет совпадал с тем, что мне было передано в Найроби, но основания там были очень личными и внутренними, а здесь -политическими и общими. Я рассказал ему, как участвовал в нескольких мирных конференциях и слышал такие же речи Брайанда. Это было двадцать восемь лет назад, с тех пор Брайанда погубили его же взгляды. Сматс печально ответил: «Так и меня погубят мои взгляды. Но сейчас в Европе появились люди, и люди влиятельные, которые так же, как и я, считают, что мы должны направить все наши усилия на спасение Европейской культуры. Это возможно только в том случае, если мы сохраним политическую независимость Европы».
В этот момент вошел секретарь и сказал, что он уже полчаса, как опаздывает на встречу. Сматс повернулся ко мне и добродушно усмехнулся: «Видите, как вы меня заинтересовали. Отправляйтесь к Хофмайеру и расскажите ему об угле. Здесь мы хоть что-нибудь сможем сделать».
Хофмайер тут же принял меня и долго слушал мой подробный доклад. Он задал мне несколько неожиданных вопросов, касающихся качества и цен. Я очень быстро считаю в уме и хорошо владел предметом. Но Хофмайер оказался еще быстрее меня. Я отнес его к трем или четырем блестящим умам, встретившимся мне в жизни. Очевидно, он был также добрым и честным человеком.
Я заметил, что пласты идеально подходят для механической разработки, и, наблюдая за работой шахтеров в Банту, пришел к убеждению, что они с легкостью научатся управляться с машинами. Он ответил: «Вы не понимаете наших промышленников. Благосостояние Трансвааля построено на дешевой и доступной рабочей силе, и они просто не в состоянии думать иначе. Интересы этой страны требуют значительного улучшения уровня жизни африканцев. Все от этого выиграют. Но очень немногие в состоянии это понять. Возможно, они поймут это лишьтогда, когда будет уже слишком поздно. Тем не менее, все, сказанное вами, очень меня заинтересовало. Прошу вас поговорить с Эрнестом Оппенгеймером. Он и его сын – одни из самых богатых людей в нашей стране, они смогут услышать вас». Он велел своему секретарю написать Оппенгеймеру.
Уйдя от него, я пожалел, что не заговорил с ним о духовной стороне моей миссии. Я был уверен, что он не только дал бы мне практический совет, но и заинтересовался бы глубинным существом наших исканий. В результате я вернулся в Йоханнесбург, встретился с Оппенгеймером и другими ведущими промышленниками Южной Африки. Они внимательно слушали меня, но явно полагали, что им достаточно дешевой энергии, а дальнейшая экспансия им ни к чему. Эти богатейшие люди Южной Африки произвели на меня благоприятнейшее впечатление. Они с искренней теплотой относились к африканцам, всем сердцем стояли за Сматса и Хофмайера в их политике, направленной на процветание африканцев. Некоторые из них с сожалением говорили мне, что, когда Сматс уйдет в отставку, эта политика вряд ли продолжится. Они восхищались способностями Хофмайера, но отметили, что он не способен завоевать популярность среди населения.
Закончив свои дела, я во второй раз отправился в Мачадодорп. Левисы уже устроились. Торнберны купили около двух тысяч акров земли. Сам Торнберн настолько вдохновился приемом, оказанным ему в Йоханнесбурге, что посоветовал всей своей группе вкладывать средства в Южную Африку. Те, кто принял этот совет, видимо, никогда об этом не пожалели.
На этот раз я задержался в Долине Крокодилов. Я хотел сам почувствовать ее. Там не было ни европейцев, ни американцев, только племя базутов, насчитывающее около двухсот человек, которые под предводительством своего вождя, внушающей почтение старой дамы, которой уже перевалило за сто лет, шестьдесят лет назад оставили Натал, уходя от европейских поселенцев. Они жили традиционной племенной жизнью в пяти или шести поселениях.
Рано утром я отправился на прогулку к Крокодиловым водопадам. Я руководствовался весьма сомнительной картой. Друзья предупреждали меня о змеях и об ужасной черной мамбе, которая нападает без предупреждения. Эти рассказы отравили часть удовольствия от прогулки в фуфайке и шортах по сочным травам долины. Все, что я увидел, была пара невообразимых бабочек с крыльями размером с мою кисть, а слышал я только болтовню невидимых бабуинов.
Следуя тропинке, я вышел к деревне базуто. Все жители деревни с мотыгами рыхлили посевы маиса. Их возраст варьировал от семи до семидесяти, и они пели и работали в такт своей собственной музыке. Увидев меня, они остановились и замерли в удивлении. Затем разом все засмеялись. Раньше мне не приходилось слышать такого смеха. В нем была чистая радость и дружелюбие без всякой враждебности или затаенной мысли. Я помахал им рукой и пошел дальше, а они вернулись к прерванной работе и пению. Это был один из незабываемых моментов моей жизни. Жизненный опыт убедил меня, что счастье значит больше, чем любое материальное благополучие. Мне редко приходилось встречать счастливого богача, но я видел много счастливых бедняков в беднейших деревнях Малой Азии и Греции. Я видел счастье в Омдурмане, но счастье, сейчас представшее перед моими глазами, отличалось от всех остальных. В этой деревне отсутствовали малейшие плоды цивилизации. У них не было даже плуга или телеги. Но они были счастливейшими из людей, которых я когда-либо видел. Они были людьми без страха и спеси. Я не мог не сравнить их с африканцами из пригородов Йоханнесбурга или даже с более счастливыми шахтерами Трансильвании. Но даже теперь, после сравнения, я понимал, что пути назад нет. Никакая сила в мире не могла спасти этих счастливых базуто от цивилизации. Дайте срок, и доброе правительство построит в долине школы и снабдит племя инструментами и тракторами.
С внезапной острой болью я спросил себя: «Неужели я видел последних счастливых людей на земле? Неужели все человечество попалось в сети материального успеха? Европейцы счастливы по сравнению с американцами. Они древнее по происхождению, и у них есть традиции. Но как быть с этими африканцами? Разве они не более древние и послушные традициям, чем мы все? Что сделали американцы с краснокожими индейцами – носителями традиции, насчитывающей двадцать тысячелетий? Что же мы делаем? Продаем счастье за прогресс, человеческое право первородства за обладание машинами!»
Красота долины возвратила мне душевное равновесие. Я углубился в лес вверх по берегам Крокодиловой реки, совсем узенькой в истоке. Водопад развеял последние остатки боли. Это не только один из самых больших и величественных водопадов в мире, но и, должно быть, один из самых красивых и, в то время, чистых. Под звуки падающей воды я молился о том, чтобы никогда не забывать, что если человека и можно считать создателем городов, то Бог остается творцом природы.
Я понял, почему меня так тянуло в эту долину, но знал, что никогда не буду жить здесь. Я печалился оттого, что никогда не видел в мире места столь прекрасного, уединенного и счастливого.
Вскоре я приехал в Англию, написал отчет, но в Южную Африку уже никогда не вернулся. Община была основана. Я помогал собирать для ее создания средства. Но тем, кто отправился туда, не доставало опыта, и через пару лет земля была продана. Думаю, ее купили для организации ловли форели, которой знаменита Крокодилова река. Богатые жители Южной Африки, наверное, проводят там выходные.
Я в одиночестве вернулся в Лондон, где меня ждали и готовились к моему приезду. Жена устроила праздник с демонстрацией гурджиевских упражнений и ритуальных танцев, над которыми двадцать четыре выбранных ученика работали под ее руководством. Были сделаны такие же костюмы, какие мы видели в Prieure. Меня застигли врасплох, и я повел себя не лучшим образом. Как раз перед возвращением в Кумб я боялся оказаться на пьедестале и того, что ко мне будут относиться как к высшему существу. Я боялся как за самого себя, так и за других, если они станут искать силу и опору во мне, а не в себе. Это был единственный пункт расхождения взглядов моей жены и моих. Она считала, что другим полезно уважать меня и что мое постоянное самоуничижение является моей слабостью, которую я должен преодолевать.
В большинстве случаев мне удавалось сохранить равновесие между двумя противоположными взглядами на мою роль, но на сей раз мое поведение не лезло ни в какие ворота. Вместо того, чтобы поблагодарить всех за те усилия, которые они приложили, я едва открыл рот и по окончании представления тут же вышел из комнаты. Моя жена сделала все, что в ее силах, чтобы успокоить собравшихся, и они, действительно, восприняли мое поведение как испытание, которому я их подверг, чтобы понять, сделали ли они эту работу для себя или ради благодарности. С тех пор несколько из присутствовавших тогда человек напоминали мне о происшедшем и о том, что все, что бы я ни делал, считалось сознательно направленным к некой высокой, но скрытой цели.
Скажу откровенно, что ничем не поддерживал столь глупого ко мне отношения. Напротив, я пытался выставить напоказ свои многочисленные недостатки и промахи. В этой книге я несколько раз упоминал о своем отношении к женщинам. Я всегда считал, что могу помочь женщине преодолеть трудности или неудачи в личной жизни своей симпатией или больше, чем просто симпатией. Все, что я могу сказать в свое оправдание, – я никогда не становился между женщиной и ее мужем и никогда не поддерживал интерес замужней женщины ко мне. Но я всегда был готов пойти навстречу свободной женщине. Две такие связи продолжались многие годы и были важной частью моей жизни. Моя жена их не одобряла, но считала их неизбежными при моем характере и нашей разнице в возрасте. Но такие связи действительно непростительны, если они возникают там, где есть отношения учителя и ученика, и я постоянно боролся с ними.
Я едва упоминаю здесь об этой стороне моей жизни, так как считаю, что и других моих действий, которые я не старался ни прятать, ни выставлять напоказ, достаточно, чтобы разрушить всякое представление обо мне как о высшем существе, достойном особого уважения. Другой моей явной слабостью была гнусная привычка врать, как для того, чтобы сделать людям приятное, так и для того, чтобы избежать конфликтов. Все знали об этой моей привычке и все же продолжали относиться к моим действиям так, словно ими руководил некий высший разум.
Я обладал еще одной «милой» особенностью: легко соглашался с каким-нибудь предложением, а потом после собственных раздумий находил его ошибочным и поступал совершенно другим образом без каких-либо предупреждений или объяснений. Я видел и другие свои недостатки и мало заблуждался на свой счет.
Я вернулся в Англию и нашел жену не только уставшей, но и серьезно больной. Два года она без отдыха несла всю тяжесть забот в Кумб Спрингс, и я предложил отправиться в автомобильную поездку во Францию.
Я слышал об открытии палеонтологами древних наскальных рисунков в Ласкоксе и, поскольку доисторические времена всегда меня интересовали, хотел увидеть их собственными глазами. Нам повезло: мы смогли осмотреть пещеры сразу после того, как в них был открыт доступ посетителям. Мы забрались под нависающую скалу и разглядывали рисунки при свете ламп. Эффект был неописуемым. Здесь, перед нашими глазами, были доказательства того, что как минимум двадцать тысяч лет назад на земле жил человек – носитель высокой культуры и значительных технических навыков. Об этих рисунках написано так много, что мне почти нечего добавить, кроме того, что я убедился, что в них можно различить два культурных слоя. Один из них представлял эзотерическое общество, знавшее, с какой целью создаются эти подземные изображения и применившее для этого технические возможности, намного опережавшие время, в котором они жили. Другой уровень относится к пещерным поселениям вокруг Лес Эйзиес, в которых все имеет примитивные черты, присущие жителям каменного века. Недельное пребывание в Дордогне и посещение музея Человека в Париже убедили меня, что эзотерические общины существовали и в древности, правда, они существенно отличались от тех фантастический описаний, что приводятся в теософской и оккультной литературе, так нежно любимой князем Сабахеддином. Я мог представить себе огромные стада оленей и бизонов, племена охотников, следующих за отступающим ледником, и на заднем плане мудрецов, подготавливающих будущее, которое мы унаследовали.
Жена вернулась домой повеселевшей, но все с той же непонятной болью. Я возил ее к различным докторам, но никакого определенного диагноза не добился. В мае я узнал, что Powell Duffryn требуются сведения об исследованиях, проводящихся в Соединенных Штатах, направленных на получение нефти из угля. Я предложил поехать туда и составить доклад. Получив добро, я написал мадам Успенской, с надеждой спрашивая у нее позволения встретиться с ней. К своему восхищению, я получил сердечный ответ, приглашающий меня погостить в Мендхеме.
Я прибыл 7 июня, за день до своего пятьдесят первого дня рождения. У внука мадам Успенской, Леонида, в этот же день был день рождения, и меня пригласили принять участие в праздновании. Я был удивлен, встретив двух старых учеников Успенского, о которых я слышал, что они ушли из группы. К тому времени мадам Успенская почти не выходила из своей комнаты и никого не принимала.
Меня пригласили к ней, и, расспросив о здоровье жены, она поинтересовалась: «Теперь, когда ушел мистер Успенский, что будете делать Вы?» Я ответил, что надеялся найти мистера Гурджиева. Но не могу отыскать его следов. Я предположил, что он или умер, или, как кто-то говорил мне, помешался. Она возразила: «Он не помешался. Он никогда не был сумасшедшим. Он живет в Париже. Почему бы вам не съездить к нему?»
Ее слова неимоверно потрясли меня. Мгновенно я увидел, как глупо поступил, не проявив никакой настойчивости в поисках. Я вспомнил последнюю беседу с ним, после которой прошло почти четверть века. Я до смерти перепугался. Я уже не был молод. Смогу ли я вынести его методы? Чего он потребует от меня на этот раз? И вместе с этим потоком вопросов на меня нахлынуло облегчение. Я больше не был один. Единственный из всех людей, о котором я мог с уверенностью сказать, что его внутреннее видение несравненно глубже моего, был рядом и мог помочь.
Я сказал мадам Успенской: «В Америке мне нужно закончить работу. Потом, если вы скажете мне, что я должен сделать, я уеду».
Она ответила: «Все не так просто. Дело касается не только Вас. Вы не знаете, в каком положении находится мистер Гурджиев». Она велела своей компаньонке мисс Дорлингтон прочесть письмо, которое она написала в Лайн, задавая группе тот же вопрос, что и мне, и предложив им обдумать возможность возвращения к Гурджиеву. Письмо вызвало бурю. Некоторые сочли себя связанными обещанием Успенскому никогда не иметь дело с Гурджиевым. Другие хотели бы получить больше информации. Только двое – те, что приехали в Америку, – решили, что попытаются вновь работать с Гурджиевым. Впоследствии оказалось, что предложение мадам Успенской вызвало враждебность фанатично настроенной группы, принимавши каждое слово, сказанное Успенским, за непреложный закон, который никто не мог нарушить, не предав священного доверия. Он сказал: «Никто не должен общаться с Беннеттом», – и необходимо было соблюдать это, жив он или умер, действовал ли он по справедливости или был введен в заблуждение.
Это меня не удивило. История учит, что когда духовный учитель, малый или великий, покидает земную сцену, его последователи разбиваются на фракции. Каждая претендует на сохранение и передачу того, что принес в мир их учитель, но одни слишком буквально воспринимают свою задачу, храня каждое слово, каждое воспоминание, каждое предписание так, словно они были выкристаллизованы и скреплены навечно. Другие тайно или явно празднуют освобождение от учителя и идут туда, куда их ведут личные побуждения. И только третьи сохраняют дух учения, приспосабливая его к внешним изменениям и даже изменяя его, если приходит что-нибудь новое.
В таком виде, полагаю, каждый примет третий вариант действия. Он соответствует притче о талантах, которая осуждает раба, зарывшего деньги господина в землю. Но в действительности все не так просто. Многие полагают, что следуют Пути Жизни, в то время как их ведет личное упрямство и эгоизм. Идущие по первому пути будут стойко отрицать, что закопали доверенный им талант в землю.
Обращаясь к прошлому, мы видим, как все последователи великого человека убеждены, что делают все в интересах его памяти. Лишь историческая перспектива позволяет нам увидеть разделение фракций. Со временем пассивные последователи исчезают, как исчезла христианская еврейская община в Иерусалиме, или Эхл-и-Юейт, или «Люди Дома», в Мекке. Только почти что еретики, такие как Св. Павел, или Му’авийа, пятый халиф, за внешней формой прозревали внутреннюю сущность послания и продолжали его жизнь в жизни людей. В буддийских текстах приводится контрастное описание Ананды, ближайшего ученика, сохранившего в памяти каждое слово Учителя, и Сарипутты, искателя, проповедника опасных взглядов. Ананда и подобные ему канули в Лету после смерти Будды. Активные искатели, едва ли не еретики, сохранили жизнь Дхармы.
И если мадам Успенская представлялась последователям своего мужа почти еретичкой, то это потому, что она смотрела на жизненное содержание, а не на форму его учения. Она знала, что ни одно учение, начинающееся и заканчивающееся в человеке, не может быть жизненной силой. За Успенским она видела Гурджиева, а за Гурджиевым – Великий Источник, источник всякого добра и совершенных даров.
Я не колебался ни минуты. Узнав, что Гурджиев жив и здоров, я решил немедля отправиться к нему. Но вначале я должен был выполнить свои обязательства. Я отправился в поездку по угольным научно-исследовательским лабораториям Соединенных Штатов. Хотя моя мать была американкой в четвертом поколении, я никогда не бывал в США, и все восхищало меня. Упомяну о двух происшествиях, иллюстрирующих контрасты этой великой страны.
В мои планы входило посещение Бюро научно-исследовательской станции при горнорудных шахтах, тогда работавшей над карбонизацией бурого угля, в Голдене, Колорадо. Голден – приисковый городок, основанный в дни поиска золота, когда Колорадо был отдаленным штатом. Он расположен на высоте 8000 футов над уровнем моря у подножья Скалистых гор, за Денвером. Мне указали ресторанчик, знаменитый своими бифштексами. Владелец был внуком его основателя, когда крупный рогатый скот только начали разводить в Штатах. Без труда найдя его, я уселся за столик и заказал мясо. Мне ответили, что понадобится три четверти часа для его приготовления. Я прошелся по городку и пришел минут на двадцать раньше срока. Проглядывая меню, я увидел форель Скалистых гор и заказал ее, чтобы скоротать время. Вскоре передо мной оказалась огромная рыбина, весом не менее полутора фунтов, и я понял, что наемся до отвала. Рыба была превосходной, и я прикончил ее. Тут я заметил, что посетители ресторана посматривают на меня с любопытством. На огромном овальном блюде принесли мясо. Это было целое ребро, весом в два с половиной фунта: пятинедельный мясной рацион в Англии. В жизни я не ел такого нежного мяса и изо всех сил старался отдать ему должное, но мысленно я все время возвращался к миллионам мужчин и женщин, голодающий в трудовых лагерях Европы и Азии.
На следующий день доктор Перри, директор исследовательской станции, отвез меня через горы в Рифл, на двести миль к западу. Был конец июня, и в Денвере было жарко, как в печке. По мере того, как мы поднимались выше, становилось холоднее, но все же я с удивлением встретил вид, открывшийся перед нами: везде, куда ни кинешь взгляд, – заснеженные горы и огромный ледник, у подножья которого паслось стадо древних бизонов. Они настолько были похожи на бизонов, изображенных в Ласкаских пещерах, что у меня замерло сердце. В тот момент я решил, что американские индейцы оставались связующим звеном с древностью и что мы совершили ужасное преступление, уничтожив их культуру вместо того, чтобы учиться у них.
Рифл – небольшой шахтерский городок в отдаленной части Колорадо с высокой столовой горой, простирающейся на сотни миль. Я намеревался осмотреть одно из крупнейших мировых месторождений сланцевой нефти и то, как ее добывают. Это была одна из множества поездок, я побывал в разных частях страны.
Если бы моя книга предназначалась ученым, я бы посвятил целую главу этому путешествию. Я познакомился со многими людьми, увидел сильные и слабые стороны американской науки и техники. Стремление во всем полагаться на механизмы отнимает у них гибкость и подавляет инициативу. С другой стороны, они в большей степени, чем любая промышленная организация в Англии, осознавали трудности, возникающие при переводе производства на широкомасштабные рельсы. В Англии мы часто терпим неудачу, потому что слишком поспешно переходим от исследований к массовому производству.
В Powell Duffryn мы совершали ту же ошибку, в основном по моей вине. Деланиум – действительно, отличное изобретение – мог бы принести коммерческий успех при малом риске вложенного капитала. Но мы очень торопились, и теперь Powell Duffryn Carbon Productsc испытывали трудности, подобно боли при прорезывании зубов. Я должен был это предвидеть, но мне не хотелось гасить энтузиазм директоров. В конце концов все устроилось лучшим образом, как это бывает обычно на предприятиях с достаточной финансовой поддержкой, но мне пришлось расплачиваться за недостаток предусмотрительности.
Все это произошло позднее, но я упоминаю об этом, потому что важно понять разницу между английским и американским подходами к решению технических проблем. Для нас верная идея важна сама по себе. Для американцев главное – иметь нужное оборудование. Если они сталкиваются с материальными проблемами, машины значат больше, чем идея, стоящая за ними. В этом отношении русские имеют преимущество перед нами обоими: они уделяют внимание равновесию между идеей и техническим обеспечением. На обратном пути в Англию я вновь остановился в Мендхеме и обнаружил, что двое моих друзей уже отправились к Гурджиеву. Каждый день я писал письма своей жене. В последнем письме перед отплытием говорилось: «Мне кажется, это наш последний бросок. Я не смогу и не буду продолжать работу в Кумбе один. Мадам Успенская утверждает, что никогда не была и не станет учителем в глазах других людей. Она предупреждает меня, что Гурджиев может предъявить нам непомерные требования. Здесь, в Мендхеме, она поставила перед своей группой вопрос: «Как бы вы поступили, если бы пришел Учитель?» Ответом, несомненно, должно быть полное предание себя в его руки. Предположим: то, что он написал в «Вестнике грядущего добра», правда, и в Персии действительно существует тайная школа, куда он посылает учеников? И, предположим, он велит мне покинуть Англию и тебя тоже и отправиться туда? Что я буду делать?»
Я отправился обратно на Мавритании, за шесть дней плавания составив отчет для Powell Duffryn. На четвертый день я получил телеграмму от жены: «Ты должен делать все, чтобы он ни сказал, даже если для нас это означает разлуку навсегда». Это был героический ответ, поскольку я очень хорошо знал, что она не переживет моего отсутствия.
В конце июля я добрался домой и с тревогой обнаружил, что ее состояние резко ухудшилось. Ее постоянно мучили боли. Бернард был в отчаянии. Он водил ее к одному специалисту за другим. Один говорил, что это почки, другой – что дело в травме позвоночника, третий туманно намекал на рак. Ночи были наиболее мучительными. Она не могла заснуть до четырех-пяти утра, когда должна была принимать горячую ванну. Тепло приносило ей облегчение, тогда на несколько часов она засыпала. Несмотря на боль и растущую слабость, она настояла на том, чтобы поехать в Париж вместе со мной.
Шестого августа 1948 года мы отправились в путь. Бернард боялся, что она не перенесет поездки. Он позвонил своему приятелю-врачу и попросил его встретить нас на Северном вокзале с каретой скорой помощи. Мужество жены было огромно. Она не захотела и слышать о том, чтобы ее несли на руках и сама спустилась к такси. Я отвез ее в отель на левобережье, так как на следующий день мы должны были отправиться на улицу дю Бак рядом с бульваром Св. Германа, чтобы увидеться с мадам де Зальцман, которую я не видел семнадцать лет со времен ее короткого визита в Гадсден. Мы обнаружили, что она живет на пятом этаже и что в доме нет лифта. Я хотел, чтобы жена подождала внизу, но ничто не могло остановить ее. Медленно, преодолевая боль, она поднялась по ступенькам.
Мы встретились с мадам де Зальцман; маленькой, очень прямой дамой с белоснежными волосами, очень изменившейся по сравнению с той молодой женщиной, одной из лучших учениц Гурджиева в Prieure, которую я помнил. Как только мы прибыли, она спросила, не хотим ли мы позавтракать с мистером Гурджиевым. Потрясенные легкостью, с которой это произошло, мы тут же согласились. Мы были готовы к длительному ожиданию и многочисленным испытаниям, прежде чем сможем его увидеть.
Глава 20
Возвращение к Гурджиеву
Медленно, с трудом, моя жена спускалась по узким, крутым и витым ступенькам в древний дворик дома номер 44 по улице дю Бак. Медленно она забралась в такси, мы поехали, пересекли Сену в Понт де л’Альма, обогнули площадь Звезды и затем вниз через цветущие катальпы, окаймляющие Карнот-авеню. Жаркий, солнечный день не мог согреть мое сердце. Сила духа моей жены казалась неестественной, разве что это были те таинственные силы, которые иногда приходят к людям незадолго до смерти.
Квартира мистера Гурджиева находилась в доме номер 6 по улице Полковника Ренальда, на первом этаже, слева. Зайдя, мы погрузились в ароматы шафрана и полыни и другие, менее различимые, так что, казалось, мы очутились в другом мире. Квартира составляла странную противоположность Prieure. Все в ней было маленьким, темным и грязным, создавая впечатление нищеты, не европейской и не азиатской. Вспоминая величественные салоны и сады Prieure, огромный Дом Обучения, украшенный орнаментами, сияющее солнце 1923 года, казалось, что Гурджиев повернулся спиной не только к блеску и великолепию, но и солнечному свету. День был в самом разгаре, но шторы опущены и зажжен электрический свет.
Мадам де Зальцман проводила мою жену в небольшую гостиную справа и тут же ушла в левый коридор, через несколько мгновений вернувшись с Гурджиевым. Я повернулся к нему, стоящему на потертом ковре, изменившемуся даже больше, чем обстановка. Темные изогнутые усы побелели, а сияющее, насмешливое лицо потеряло свои твердые очертания. Он стал старым и грустным, но кожа осталась гладкой, а осанка столь же прямой, как и раньше. Я почувствовал внезапную теплоту, столь отличную от юношеского почитания и застенчивости, которые я испытывал к нему в Prieure.
На нем была красная феска, скорее в духе оттоманских турков, чем египтян или марокканцев. Открытая рубашка и свободные брюки были более ему к лицу, чем щеголеватые френчи, которые он носил в 1923. Как всегда, его движения были грациозны, а жесты сдержанны, что само по себе создавало вокруг него атмосферу отдыха и хорошего самочувствия. Мадам де Зальцман представила меня, упомянув, что он должен помнить меня по Prieure. Он возразил: «Нет, я не помню». Посмотрел на меня несколько мгновений, помолчал и добавил: «Вы – номер восемнадцатый. Не Большой Восемнадцатый, а маленький восемнадцатый». Представления не имею, что он имел в виду, но его манеры наполнили меня счастьем, и я почувствовал себя как дома. Может, он и не помнит меня, но он меня принял. Двадцать пять лет назад я уехал из Prieure, но, когда я увидел его, время исчезло, и я словно бы никогда не покидал его.
Кроме него в квартире было всего несколько человек. Ланч еще не начинался, хотя время уже перевалило за два часа. Мы вошли в скромную гостиную, площадью примерно одиннадцать футов. Стены были увешаны отвратительными олеографиями и мазней, выполненной масляными красками. В двух стеклянных ларцах лежала какая-то ерунда: куклы в костюмах и непонятные безделушки. Везде стоял запах кухни.
Американец громко читал по-английски рукопись. Каждое слово произносилось четко, но я почти ничего не понял. Через какое-то время молодая женщина просунула в дверь голову и сказала: «В цепочку». Гурджиев повторил: «В цепочку!» Без всяких объяснений большинство присутствующих выстроились в ряд, образовав цепочку от кухни до столовой. Мадам де Зальцман усадила мою жену за стол и стала негромко ее расспрашивать. Я присоединился к остальным, не зная, чего ожидать дальше.
Гурджиев прошел на кухню и стал наполнять тарелки из нескольких больших кастрюль. Тарелки ставились друг на друга: рагу внизу, суп сверху, каждое блюдо накрыто еще одной тарелкой. Их передавали из рук в руки и расставляли на столе. Я оценил преимущество этого метода сервировки через несколько недель, когда в столовой, рассчитанной на шестерых, собралось человек сорок, и перемена блюд попросту была невыполнимой.
Меня посадили справа от Гурджиева, а мою жену – напротив, слева от мадам де Зальцман. За ланчем, как обычно, произносились тосты, и сотрапезники обменивались кусочками еды, как это описано в книгах, посвященных Гурджиеву. Спустя некоторое время он перестал жевать и обратился по-английски к моей жене: «Вам больно?» «Да». «Очень больно?» «Да». Он вышел из-за стола и вернулся с коробочкой, вынул из нее две пилюли и сказал: «Примите их. Если боль пройдет, я буду знать, как Вам помочь. Если нет, скажите мне». Он возвратился к еде и больше ею не занимался.
Все наше внимание привлекала череда тостов. Я помнил гурджиевские тосты в Prieure за идиотов различных видов по субботним празднествам, но теперь ритуал явно был основательно разработан и строго соблюдался. Гурджиев сидел и слушал. Тосты произносились тем же американцем, который читал. Он сидел слева от Гурджиева и назывался «директором:» Гурджиев объяснил, что это древний обычай, известный в Центральной Азии, и его можно найти в евангельском рассказе о свадьбе в Кане, в Галилее, где распорядитель празднества, или тамада, выполняет те же обязанности, что и директор за столом у Гурджиева.
Вдруг он оборвал сам себя и, повернувшись к моей жене, спросил: «Где теперь Ваша боль?» Она ответила: «Ушла». Он настаивал: «Я спрашиваю, где она сейчас?» С глазами, полными слез, она сказала: «Вы взяли ее». Он произнес: «Я доволен. Рад, что смог Вам помочь. После кофе мадам де Зальцман покажет Вам упражнения».
Ланч продолжался часов до пяти. Когда мы поднялись из-за стола, он пригласил меня в небольшую комнатку выпить кофе. Это был и его кабинет, и кладовая, увешанная от пола до потолка сухими травами, сухой рыбой и колбасами, с полками по всей окружности, заставленными различными продуктами. В Англии продукты питания все еще жестко ограничивались, и такая выставка провизии производила необычное впечатление. Однако Гурджиев сразу же приковал к себе мое внимание, сказав: «Знаете ли Вы, какова первая заповедь Господа человеку?» Пока я тщетно искал ответ, он дал его сам: «Рука руку моет!» Помолчав, чтобы до меня дошло, он продолжал: «Вам нужна помощь,и мне нужна помощь. Если я помогу вам, Вы должны будете помочь мне». Я сказал, что готов сделать все, чего бы он ни захотел.
Он заговорил о трудностях, которые испытывает в Париже, как ему не хватает денег на важную для него поездку в Канны. Я не удивился, так как был готов отдать столько денег, сколько смогу. Тогда он спросил: «Чего Вы от меня хотите?» Я ответил: «Научите меня работать над моим Бытием». Он согласился: «Верно. Знаний в Вас слишком много, а Бытия – ноль. Если хотите, я покажу вам, как нужно работать, но придется выполнять то, что я скажу». В нашем разговоре было нечто неземное. Он был точным продолжением нашей беседы в Prieure, которая, в свою очередь, продолжала самый первый разговор в Куру Чешм с князем Сабахеддином двадцать семь лет назад. Я сказал ему: «Я знаю, что, если останусь таким, как я есть, мое положение будет безнадежно. Поэтому я вернулся к Вам». Он ответил: «Делайте, как я скажу, и я научу Вас, как измениться. Нужно только перестать думать. Вы слишком много думаете. Надо научиться ощущать. Понимаете ли Вы разницу между ощущением и чувством?» Я ответил, что первое относится к физическому уровню, а второе – к эмоциональному. «Да, более или менее. Но Вы всего лишь знаете об этом умом. Но не понимаете этого всем своим существом. Этому Вы и должны научиться. Скажите, чтобы мадам де Зальцман показала Вам и миссис Беннетт упражнение для ощущений и чувств».
Когда я уже выходил из комнаты, он окликнул меня и спросил: «Читали ли Вы «Баалзебуба?» Я понял, что он говорит о книге, отрывки из которой зачитывались вслух перед ланчем, и ответил, что никогда не видел этой книги. Он сказал: «Нужно прочесть ее много раз. Возьмите главы о Ашиате Шиемаше и трижды прочтите, прежде чем придете сегодня к ужину».
Я нашел свою жену сидящей рядом с мадам де Зальцман и рассказывающей ей о Кумб Спрингс. Когда я сказал, что мы должны научиться упражнению для ощущения и чувствования, мадам де Зальцман спросила, уверен ли я в том, что правильно понял, поскольку это упражнение требует подготовки. Однако оказалось, что именно этого он и хотел, и она очень просто и ясно объяснила, в чем заключается упражнение и как долго и часто мы должны выполнять его. Она также дала мне рукопись тех трех глав, о которых он говорил. Я вернулся на д’Эйлау-авеню и несколько раз прочел эти главы. В них рассказывалось о мистическом проповеднике Ашиате Шиемаше и его «Организации во имя существования человека». Они произвели на меня глубокое впечатление. Я увидел в них предсказание грядущих событий. Позже Гурджиев подтвердил мою интерпретацию.
Жена была буквальна наэлектризована из-за пережитого. Я, со своей стороны, видел, что по крайней мере на время она получила облегчение и встала из-за стола со своей обычной живостью, а не медленно и болезненно, как это происходило в течение последних нескольких месяцев. На следующий день она долго наедине говорила с Гурджиевым, но никогда не передавала мне содержание этого разговора, заметила только, что он больше касался меня, чем ее, и что она убедилась, что он действительно может помочь мне.
Бернард поселил нас в квартире у своих друзей, молодой пары, героев французского Сопротивления. Он приехал с едва теплившейся надеждой увидеть Гурджиева. Нас сопровождала и Элизабет Майал, но она отклонилась немного к югу, чтобы своими глазами увидеть Ласкоские пещеры, которые произвели на нас такое впечатление.
Когда мы вернулись на д’Эйлау-авеню, Бернард пришел в восхищение от состояния моей жены. Выздоровление наступило не сразу, но несколько дней она спала без боли, и ее таинственная болезнь исчезла. До конца жизни эта боль никогда не возвращалась, и она пребывала в уверенности, что Гурджиев исцелил ее.
Этим же вечером мы были приглашены на ужин, где Гурджиев объявил, что едет в Канны. Я дал ему приличную сумму денег и надеялся, что благодаря им путешествие стало возможным. Он предложил мне отправиться вместе с ним, но я сказал, что не взял с собой машину. Он возразил: «Пошлите за своей машиной и следуйте за нами». Я позвонил племяннику жены, Пьеру Эллиоту, который обещал приехать на следующий день.
Гурджиев уехал во взятой напрокат машине, вместе с тем американцем, который читал в тот первый вечер, Георгием, его русским шофером и молоденькой девушкой по имени Лиза Трэкол. Мы с женой собирались последовать за ним на следующий день. Проводив Гурджиева, моя жена, Бернард и я мирно провели вместе весь день. Бернард был нам очень близок, и мы хотели, чтобы он разделил наш опыт. Долго это казалось невозможным, так как я понял со слов мадам Успенской, что мы с женой можем искать встречи с Гурджиевым, но я не должен просить разрешения приводить кого-нибудь из своих учеников.
На следующее утро, как мы и договорились, я позвонил и сообщил, что прибыла моя машина, и спросил, нет ли кого-нибудь еще, кто мог бы поехать со мной. Мне ответили, что ночью произошла серьезная авария и что мадам де Зальцман отправилась на поиски Гурджиева и привезет его домой. Я передал эти новости своим. Мы были в шоке. Что если он умрет, как раз тогда, когда мы только нашли его?
Солнце зашло, когда Пьер Эллиот на предельной скорости пригнал мою машину из Дьеппа. Я приехал на улицу полковника Ренальда, надеясь чем-нибудь помочь. В тот же момент к двери медленно подъехали две большие машины: они только сейчас вернулись. Первым моим побуждением было уехать незамеченным, чтобы не быть лишней обузой, но тут я сообразил, что они, должно быть, смертельно устали и что я могу помочь с багажом.
Я припарковал машину и вышел на дорогу. Начинало смеркаться, но было как-то неестественно темно. На улице не было ни души. Я стоял, смотрел и ждал. Дверь одной машины распахнулась, и из нее медленно вышел Гурджиев. Его одежда была покрыта кровью. Лицо черно от кровоподтеков. Было и еще что-то: я понимал, что смотрю на умирающего человека. Даже не так. Это был мертвец, труп; но он вышел из машины и продолжал идти.
Я весь дрожал так, словно бы увидел привидение. Я не думал, что он устоит на ногах. Но он дошел до двери, затем до лифта и вошел в свою квартиру на первом этаже, слева. Я шел за ним как завороженный.
Он вошел в свою комнату и сел. Затем проговорил: «Все органы разрушены. Надо сделать новые». Он заметил меня, улыбнулся: «Приходи ужинать вечером. Я должен заставить тело работать». По нему прошла судорога боли, и я увидел, как из уха полилась кровь. В голове пронеслась мысль: «У него кровоизлияние в мозг. Он убьет себя, если будет продолжать заставлять свое тело двигаться». Он спросил у мадам де Зальцман: «Как там X?» Имени я не разобрал. Она ответила, что его увезли в американский госпиталь. Он приказал: «Съезди проведай его. Как он?» И добавил: «Хочу дынь. На обратном пути купите дыни».
Я сказал себе: «Он должен все это пережить. Если его тело остановится, он умрет. Он властен над своим телом». Вслух я предложил отвезти мадам де Зальцман. В этот момент я увидел ее героическое мужество. Она была серой от переживаний и не могла вынести мысль, что придется оставить его в такой момент, но повиновалась безоговорочно.
Она сказала: «Ведите машину осторожно. Я не смогу выдержать большего». В лучшие дни мое вождение не доставляло удовольствия пассажирам, а в тот день я совсем никуда не годился. Тем не менее, как-то я справился и даже остановился у рынка на площади Св.Фердинанда, чтобы купить дыни, но все магазины были уже закрыты.
Из ниоткуда появился Пьер, с тревогой ожидая в дверях новостей. Гурджиев спросил, кто это, и сказал: «Скажите ему, пусть достанет дынь. Если он сможет, будет всегда желанным гостем в моем доме». Пьер, всегда лучше всех владевший собой в минуты кризиса, отправился в Холле и привез громадное количество дынь. Я вернулся за женой и чтобы сказать Бернарду, что Гурджиев хочет укол морфия, чтобы успокоить боль.
Ужин в тот вечер был мучительным. Приехал доктор и сказал, чтобы Гурджиев лежал абсолютно неподвижно и что он умрет, если не от травмы, то от пневмонии. Гурджиев отверг все советы и спустился к ужину. Он немного поел и выслушал четыре тоста. Наконец он отправился в постель. Пришел Бернард с морфием, ему пришлось обойти одного за другим всех его приятелей- докторов, пока он не застал одного дома. Гурджиев сказал, что морфий ему больше не нужен, так как он понял, «как жить с болью».
На следующий день он был очень болен. У него была раздроблена кость в черепе, что само по себе не очень страшно, но вдобавок были сломаны несколько ребер и легкие наполнились кровью. Он проезжал через маленький городок Монтпргис, как вдруг пьяный-водитель грузовика вылетел со своей стороны дороги и настиг машину Гурджиева. Водитель грузовика и его пассажир были убиты на месте. Машина Гурджиева согнулась пополам, зажав его между сидением и рулем. Понадобился час, чтобы вытащить его. Он оставался в сознании и руководил каждым движением, чтобы избежать смертельной кровопотери. Трое пассажиров в его машине отделались легкими ранениями.
Почти все французские ученики Гурджиева в это время находились на отдыхе. Каждый, кто мог позволить себе провести несколько дней за городом, использовал для этого поездку Гурджиева в Канны. На второй день после аварии, Гурджиев пригласил Бернарда и Элизабет, вернувшуюся в Париж, к немалому удивлению и благодарности последних. До конца его жизни они никогда не упускали возможности побыть с ним. Кроме нас пятерых: моей жены и Элизабет, Бернарда, Пьера и меня, в квартире Гурджиева почти никого не бывало. Нам было велено приходить к обеду и ужину. В среду после аварии Гурджиев, войдя в столовую, спокойно заметил: «Никогда не позволяйте врачам давать вам пенициллин. Он отравляет психику человека». Когда он был очень болен, ему сделали инъекцию против пневмонии, но на следующий же день он отказался принимать врача. Профессиональная сиделка-француженка ухаживала за ним. Вначале она пришла в отчаяние и сказала: «Как это он еще не умер? Ведь он себя убивает». Гурджиев настойчиво присоединялся к нам во время еды.
Мы с женой наблюдали потрясающее изменение. До аварии он был тем загадочным Гурджиевым, которого мы знали и о котором ходили всякие невероятные истории. В течение четырех или пяти дней после аварии казалось, он не испытывал нужды играть роль или прятаться за маской. Тогда мы почувствовали его необычайную доброту и любовь к человечеству. Несмотря на искалеченное лицо и руки – он был в буквальном смысле черным и синим с головы до ног – и страшную телесную слабость, он казался нам прекрасным существом из другого и лучшего мира. Бернард и Элизабет, незнакомые с ним раньше, не могли примириться со своими впечатлениями от него и от того, что они слышали и читали о нем.
Я уверен, что на несколько дней перед нами открылся подлинный Гурджиев, которому приходилось своим отталкивающим поведением заставлять людей работать над собой вместо того, чтобы поклоняться ему. Через неделю он уже мог выходить, и через среду после аварии, как он и предсказывал, он вернулся к своему обычному распорядку: ходил в свое кафе по утрам, делал покупки, принимал невероятное количество посетителей, и, кроме того, все больше и больше людей сидело с ним за столом. Вновь он стал прежним Гурджиевым, еще более загадочным, чем раньше. На третий или четвертый день после аварии он сказал мне: «Сколько народу у тебя в Англии?» Я ответил, что около двухсот, а в данный момент восемьдесят собрались на семинар в Кумб Спрингс. Я оставил им задание на три-четыре дня, полагая вскоре вернуться. Услышав, что так много людей свободны и могут приехать в Париж, он сказал: «Пусть все приезжают. Моя французская группа отдыхает. Нельзя терять время. Возвращайся домой и привези всех, кто захочет приехать».
Мы с женой на машине вернулись в Англию и собрали всех приехавших в Кумб на семинар и тех, до кого удалось дозвониться. Я сказал им: «Некоторые из вас знают, что мы с миссис Беннетт уезжали в Париж, чтобы увидеться с мистером Гурджиевым. Мы встретились и собирались ехать с ним в Канны. Страшнейшая авария, чуть не стоившая ему жизни, нарушила наши планы. Но благодаря ей появилась возможность для всех из вас, кто хочет, поехать в Париж и самим познакомиться с ним. Вам известно, что я всегда считал мистера Гурджиева Великим Учителем, создателем нашей Системы. Поручив себя его непосредственному руководству, мы можем надеяться на прогресс, казавшийся невозможным. Но должен вас предупредить: будет нелегко».
Я коротко описал им наш приезд и аварию и упомянул об обещании Гурджиева показать нам, как работать над Бытием. Затем я продолжал: «Могу сказать, что за те десять дней, которые прошли с тех пор, как я покинул Англию, свершилось чудо. Теперь у меня есть надежда: не слепая надежда, но то, что я бы назвал Объективной Надеждой на то, что я могу достичь трансформации Бытия, которая была моей целью тридцать лет. Уверен, что некоторая объективная надежда существует и для каждого из вас. Должен предупредить вас, что Гурджиев гораздо более загадочен, чем вы можете себе вообразить. Я убежден, что он добр и работает на благо человечества. Но его методы зачастую непереносимы. Например, он использует отвратительные выражения в своей речи, особенно с дамами, которые весьма брезгливо относятся к подобным вещам. У него репутация человека, бесстыдно обращающегося с деньгами и женщинами. Не мне судить, истинны или ложны эти слухи. Но я знаю, что он может показать способ эффективной работы. Он показал мне упражнение, полностью изменившее мое представление о самовоспоминании. Я отправлялся в Париж убежденный, что самовоспоминание и недостижимо, и необходимо человеку, теперь уверен, что оно достижимо и с легкостью, с помощью простого вовлечения сил, скрытых в наших телах».
«Я полагаю, что как бы ни был велик риск и цена, игра стоит свеч. Но я не хочу, чтобы вы слепо шли за мной. Помните совет, написанный над входом в Дом Обучения в Prieure: «Если у вас нет хорошо развитой критичности, вам нет смысла входить сюда». Если вы решитесь войти, держите глаза открытыми. Я не верю, что скандальные слухи, окружающие Гурджиева, верны, но вы Должны иметь в виду, что они могут быть верны, и действовать соответственно».
Несколько человек взяли слово и отметили, что они впечатлены не столько тем, что я сказал, сколько явным изменением, происшедшим со мной. Еще до конца вечера большинство присутствующих обратились ко мне с просьбой взять их с собой в Париж. В августе 1948 года я привез около шестидесяти человек в дом Гурджиева. Хотели приехать еще десятки, но квартира на улице полковника Ренальда, заполненная до отказа, никак не вмещала больше шестидесяти человек, а к тому времени со всего мира стали собираться его старые и новые ученики. Нам необычайно повезло попасть в период затишья и пережить вместе с ним события, относящиеся к аварии.
Когда вернулась французская группа, мы стали приезжать в Париж как можно чаще на выходные. Некоторые из моих учеников взялись помогать в работе в Париже, особенно в копировании «Баалзебуба», тогда еще в рукописи, который остро требовался повсюду. Члены английской группы были чрезвычайно благодарны французам, которые отодвинулись на задний план, чтобы облегчить нам доступ к Гурджиеву. Семь лет Гурджиев был полностью в их распоряжении, обучая их с постоянством и настойчивостью большими, чем любую другую из своих групп. Они глубоко уважали мадам де Зальцман, поддерживавшую их во всех перипетиях и разочарованиях, с которыми сталкивался каждый учившийся у Гурджиева.
Вскоре после того, как в Париж потянулись ученики из Кумб Спрингс, к Гурджиеву приехал Кеннет Уолкер с двумя спутниками, которых я уже встречал в Мендхеме. Уолкер выглядел печальным, разочарованным стариком. Гурджиев принял его с подлинным участием, возродил в нем веру и надежду гораздо более в его чувствах, чем в его уме. С огромной радостью мы наблюдали за трансформацией, происходящей на наших глазах. Через несколько дней Уолкер помолодел и ожил. Он вернулся в Лондон и говорил с учениками Успенского – с теми из них, кто был готов слушать. В результате многие приехали в Париж. Вскоре между Лондоном и Парижем установились три гармонично сочетающихся потока. Третий был организован Джин Хип, замечательной женщиной, одной из основательниц «Little Review», известной в авангардных кружках Америки уже сорок лет назад. Около двадцати лет она несла знамя Гурджиева и только Гурджиева в Лондоне, отказываясь иметь дело с группами Успенского и с остальными, которых она с присущей ей безапелляционностью называла ренегатами. За столом Гурджиева собирались люди из разных концов мира и с разными представлениями о том, что значит слово «Гурджиев».
Но за этим столом забывались всякие различия. Мы узнавали нечто новое и необычное: глубинную значимость человеческого тела и скрытые в нем возможности. Гурджиев показал нам упражнения столь новые и с такими неожиданными эффектами, что перед нами словно бы открылся новый мир. Он также внушал, но лишь тем, кто приехал с искренним желанием увидеть путь, важность и крайнюю необходимость работы над собой, чтоб освободить личность от иллюзий и зависимости. За столом распорядитель должен был произносить тосты за «безнадежных идиотов», чтобы мы четко различали тех, кто субъективно безнадежны, поскольку уверены в своей никчемности, и объективно безнадежных, не кающихся в своих грехах и обреченных умереть собачьей смертью.
Ни одно описание не в состоянии передать ужасающую реальность этого различия так, как его передавал Гурджиев, с огнем в глазах и звучными интонациями Иеремии. Я видел пожилых людей, падающих ниц и плачущих, которые, возможно, не испытывали подобных чувств с детства. Несколько человек, мужчин и женщин, уезжали из Парижа после выходных, проведенных с Гурджиевым, в столь взбудораженном состоянии, что им понадобилось лечение в психиатрических клиниках. Сам он никогда не расслаблялся: каждый день, с утра до вечера, он встречался с людьми, читал, председательствовал на дневных и вечерних трапезах, проводил занятия ритмическими упражнениями и частенько заканчивал день неземными импровизациями на ручном органе.
Ужины, кофе и музыка продолжались за полночь. Только в два-три часа ночи мы расходились по домам. К этому времени мы находились под таким впечатлением от слов Гурджиева, что не могли заснуть. Группами по три, четыре, а иногда и десять человек мы отправлялись в ближайшее кафе и просиживали там час, а то и больше, пытаясь воссоздать то, что говорил Гурджиев. Это привело нас к странному наблюдению: один четко и ясно помнил то, что касалось какого-то предмета, другой запоминал нечто совершенно противоположное по тому же поводу. Порой несколько человек настаивали, что Гурджиев говорил только для них, сообщая им нечто глубоко личное и важное. Другие, сидящие в ярде от них, ничего такого не слышали.
Через некоторое время мы пришли к выводу, что Гурджиев владеет особым видом Майи, позволяющей ему одновременно по-разному обращаться к разным людям. Он в действительности был, как говорила мадам Успенская, X – неизвестным качеством. Чтобы дать некоторое представление о его бесконечном разнообразии, сорок человек, знавших его в различные периоды его жизни, должны были бы написать сорок различных книг. К несчастью, большинство из тех, кто мог бы написать о нем, умерли, не оставив ни строчки.
Я не буду описывать духовные упражнения Гурджиева, так как убежден, что их нельзя выполнять иначе, кроме как под наблюдением опытного руководителя. Здесь лежит серьезнейшее препятствие к распространению гурджиевского метода. Все его ученики соглашаются, что, по крайней мере, в течение первых семи лет интенсивных занятий необходим групповой лидер. Большинство из тех, кто пытался проводить такое обучение, потерпели неудачу, осознав собственные недостатки и неспособность взять на себя ответственность за остальных. Впоследствии те, кто в разное время брали на себя задачу руководства остальными, уставали и перенапрягались. Зависимость от хорошо подготовленных и редко встречающихся учителей является серьезным недостатком этого метода, который невозможно преодолеть.
Одно упражнение, открывшее мне новую область для понимания, я могу описать, поскольку любопытствующему читателю будет нелегко его повторить. Как-то Гурджиев позвал меня к себе в комнату и спросил о моей матери, когда она умерла и что я чувствовал по отношению к ней. Затем он сказал: «Ей нужна помощь, так как сама она не может найти путь. Моя мать уже свободна, и я могу помочь ей. Через нее можно помочь и твоей матери, но ты должен установить между ними связь». Он дал мне фотографию своей матери, умершей двадцать четыре года назад в Prieure, и сказал: «Каждый день полчаса ты будешь делать то, что я скажу. Вначале взгляни на это изображение – ты должен уметь увидеть мою мать с закрытыми глазами. Затем поставь рядом два стула, на правом представь мою мать, а на левом – свою. Стоя перед ними, сконцентрируй внимание на желании, чтобы они встретились и твоя мать получила помощь. Это крайне тяжелое упражнение, и нужно очень сильно желать помочь твоей матери. Сам ты не можешь помочь ей, но через свою мать я могу помочь ей».
Я отнесся к этому упражнению более серьезно, чем к другим. Когда умерла моя мать, я понимал, что ей нужна моя помощь после смерти, но я не представлял себе, как это сделать. Задача оказалась непредвиденно болезненной. Через несколько недель усилие, которое я затрачивал на ежедневное стояние перед двумя пустыми стульями, стало почти невыносимым. К своему удивлению, я был весь в поту, словно занимался тяжелым физическим трудом. Однажды я разрыдался и проплакал все полчаса. Казалось, ничего не произошло. Меня охватили сомнения, будто бы вся эта затея была всего лишь жестокой шуткой, которую Гурджиев сыграл со мной. Затем начались перемены. Через месяц упражнений я начал ощущать в комнате чьи-то присутствия. Сначала они были колеблющимися и неопределенными, а затем приняли вид моей матери и мадам Гурджиевой. Я чувствовал, как моя мать сопротивляется и не хочет посмотреть налево. И вот однажды, несомненно, была установлена связь. Через меня прошла волна облегчения и благодарности. Казалось, в тот момент сам Гурджиев был в моей комнате в Кумб Спрингс.
Пару дней спустя я вернулся в Париж и рассказал ему о случившемся. Он заметил: «Я очень рад. Теперь ты – член моей семьи, и мы никогда не будем отделены друг от друга».
Я почувствовал себя его сыном и взял его руку, чтобы поцеловать. Он резко вырвал ее со словами: «Не ты должен целовать мои руки, а я твои». Я так и не понял, что он имел в виду, так как он перевел разговор на какую-то практическую тему, о которой я уже забыл. С того дня я больше не мог повторить это упражнение, хотя часто осознавал некую тонкую и почти неощутимую связь с моей матерью.
Может все это зря?
Глава 21
Последние дни Гурджиева
Тем временем Гурджиев собирался в Соединенные Штаты. Главным препятствием оставался его паспорт. Его известность не приветствовалась властями ни одной страны. До войны его не выслали из Америки только благодаря заступничеству очень влиятельных друзей. Французская полиция считала его опасным, подозрительным субъектом. После войны он был арестован по обвинению в незаконном хранении иностранной валюты, и его досье в парижской префектуре было переполнено докладами о различной незаконной деятельности. Сам Гурджиев оставался совершенно равнодушным к производимому им впечатлению, иногда даже специально стремился подать себя в невыгодном свете.
Французская группа рассказала о его аресте. Друг, связанный с полицией, предупредил его, что не стоит хранить иностранную валюту дома. Ученики, приезжающие из-за границы, особенно американцы, привозили крупные денежные пожертвования – тысячи долларов. По закону их следовало тут же обменять на франки. Но Гурджиеву нравилось хранить иностранные банкноты. Однажды его предупредили о предстоящем обыске и посоветовали избавиться от всего подозрительного. Он заявил: «В моем доме они ничего не найдут». В тот же день пришедшие полицейские, заглянув под матрас, нашли много различной иностранной валюты. Его забрали в участок и поместили с отпетыми уголовниками. Рассказывая впоследствии эту историю, он говорил, что один из сокамерников подошел к нему и спросил: «Ну что, старина, какой раз сидишь?» Гурджиев ответил, что первый, и понял, что потерял всякое уважение. В следующий раз в ответ на тот же вопрос он величественно произнес: «Восемнадцатый!» и мгновенно стал центром всеобщего восхищения. Это число имело скрытый смысл, поскольку в гурджиевской классификации “идиотов” представляло наивысший уровень, который может Достичь индивидуум во Вселенной своими собственными усилиями.
В магистрате Гурджиев представился бедным стариком, ничего не мыслящим в валюте и с трудом говорящим по-французски. Его отпустили, и дома он, приукрашивая, рассказывал об этом друзьям и ученикам. Когда его спрашивали, почему он пренебрег предупреждением, он парировал: «Я никогда не бывал в тюрьме. А в жизни надо попробовать все». Он очень любил рассказывать эту историю на публике и не уставал повторять ее. Всякий раз, рассказывая, как спрятал деньги под матрасом, он с задорной улыбкой ребенка-непоседы говорил: «Хорошенькое я выбрал местечко? Разве нет?»
Подобные проделки развлекали и были весьма поучительны для его учеников, но не для полиции. Он так и не смог получить французское гражданство, и разъезжал повсюду с нансенским паспортом, выдаваемым белым иммигрантам из России. Его владельцы не могли въехать ни в одну страну без разрешения какой-нибудь другой страны принять их по окончании поездки. Французская полиция, в которую Гурджиев обратился, не преминула отказать ему в разрешении вернуться в страну. Без этого надежда получить американскую визу была ничтожно мала, если только не откликнется какая-нибудь другая страна. Однако Гурджиев хотел быть уверенным, что сможет вернуться во Францию.
Никто не мог найти выход, и меня попросили помочь. Случилось так, что кое-кто из учеников был на дружеской ноге с могущественным министром французского правительства, который заверил, что получить разрешение будет очень просто. На деле, бывший премьер-министр Франции должен лично был дать гарантии французской полиции, и только тогда она очень неохотно, но согласилась выдать требуемое разрешение. Виза на въезд в Соединенные Штаты была получена мной и другим англичанином также с помощью верных связей.
Гурджиев отправлялся морем в Англию с мадам де Зальцман из Гавра 30 октября 1948 года. Он попросил меня подняться с ним на борт, чтобы избежать каких-либо неожиданностей. В тот день за ланчем было большое торжество. Я был распорядителем и позволил себе нарушить обычный порядок тостов, предложив выпить за его здоровье. Но он сказал: «Нет. Я хочу пожелать здоровья Англии. Благодаря Англии я отплываю в Нью-Йорк свободным от всех долгов. Чистый, как ребенок». В самом деле, английские группы собрали для него очень большие суммы. У св. Лазаря собралась толпа провожающих французских учеников. Высунувшись из окна экипажа, он, как обычно, наделял всех конфетами и орехами и последним напутствием: «Надеюсь всем своим существом, когда я вернусь, каждый научится отличать ощущение от чувства».
По дороге в Гавр мадам де Зальцман нервничала, и ей слегка нездоровилось. Я не сразу догадался об ужасе, который испытывают перед полицией жившие в Париже во время немецкой оккупации. Наконец без всяких заминок мы оказались на борту американского лайнера, и тут Гурджиев дал выход своим чувствам. Он устроил настоящее представление в своей каюте, которая, по его настоянию, была на внутренней стороне. Он сказал, что не поедет в Америку, сойдет с корабля в Саутхэмптоне, где я должен был его встретить на следующее утро. Он отправился в ресторан, велел принести бутылки с арманьяком, банки с икрой и различными закусками, захваченными из Парижа. Стюарды пришли в ярость, но он успокоил их щедрыми чаевыми. Он велел мне руководить, то есть произносить тосты. Мы сидели и пили до последней минуты до отправления.
Было за полночь, когда я очутился на берегу. Мой поезд уже ушел. Под проливным дождем я побрел вдоль путей. Все отели были закрыты, и я решил переночевать под навесом на железнодорожной станции. Ко мне подошла проститутка и, думая, что я совсем несчастен и разбит, предложила разделить со мной постель. Я отказался так мягко, как мог. Она была очень толстой и доброй. Когда она скрылась, я сказал себе: «Я печально оторван от жизни. Кто хороший – она или я?»
Наступил день, и я вернулся в Лондон, чтобы разобраться в моей запутанной жизни. Действительно запутанной, поскольку отношения с Гурджиевым пересекались с моими обязанностями по отношению к работодателям. Среди моих учеников из Кумб Спрингс тоже царила неразбериха. Для некоторых из них встреча с Гурджиевым оказалась очень полезной, и все, что им было нужно, – чаще видеть его, что было легко, пока он оставался в Париже. Других оттолкнуло его поведение. Они не могли примириться с выпивкой за его столом и с его не всегда пристойными высказываниями. Некоторых отвратили рассказы о его частной жизни, особенно о его отношениях с женщинами. Он часто бахвалился множеством своих детей и непреодолимым влечением к женщинам, а они воспринимали его слова буквально
Мне кое-как удалось собрать все воедино. На мой взгляд, частная жизнь Гурджиева была только его делом; действительно имело значение то, что он мог и помогал мне и всем, приходящим к нему. Тем, кто был разочарован, я напомнил о своем предупреждении. Я сам не был особо обеспокоен тем, что увидел и услышал. Гурджиев подарил мне новую надежду, перед которой меркли все сомнения. Более того, я видел его после аварии. Уверен, любящее, богобоязненное и мягкое существо, которое открылось перед нами в те ужасные дни, было гораздо ближе настоящему Гурджиеву, чем бессовестный скандалист, которого видели в нем люди. Для меня он был не только самым удивительным из людей – более удивительным, чем он показался мне в Prieure в 1923 году, – но человеком, взявшим на себя огромную задачу и выполняющим ее чего бы это ему ни стоило.
Вскоре жизнь вокруг Гурджиева вошла в привычную колею, и он начал поговаривать о приобретении большого участка земли с домом, что позволило бы ему возобновить работу, начатую в Prieure. Ему предлагали Chateau de Voisins в Рамбулетте – величественный замок, возможно, самое красивое здание нашего века. Его владелец, сахарный барон, был готов сдать его на несколько лет и довольно дешево, чтобы самому не платить налога. Мне поручили вести переговоры. Несколько раз Гурджиев сам побывал в замке и нашел его очень подходящим для работы. Мадам де Зальцман и другие французские ученики принимали все происходящее за чистую монету, так поступил и я, и разработал финансовый план, который позволял снять замок и покрыть все расходы за счет приезжавших из Соединенных Штатов и Англии людей, ищущих помощи и руководства в их работе. Отправляясь в Америку, Гурджиев увез с собой все планы и был, казалось, намерен добиться поддержки, необходимой для аренды Chateau. Должен признаться, что я никогда не мог с уверенностью сказать, когда Гурджиев говорил серьезно, а когда играл.
Мне представилась возможность на короткое время отправиться в Америку по делам, и я прибыл в Нью-Йорк через несколько недель после Гурджиева. Близился Новый 1949 год. Гурждиев остановился в Веллингтонском отеле, где и для меня нашлась комната. Мне нужно было съездить в Вашингтон на заседание Патентной Службы Соединенных Штатов по поводу нашей заявки на изобретение деланиума, но я мог провести несколько дней в Нью-Йорке, включая 13 января, которое Гурджиев объявил своим восьмидесятым днем рождения. В действительности, он был гораздо моложе, и «полночь первого января по старому стилю» представлялась скорее символическим днем рождения. Однако в праздновании в Веллингтоне участвовали все последователи Гурджиева, приехавшие из разных концов Америки.
Он принял окончательное решение опубликовать первый том «Все и вся – Рассказы Баалзебуба своему внуку». Мадам Успенская просила его решить, стоит ли публиковать книгу Успенского Fragments of an Unknown Teaching («Фрагменты неизвестного учения»). Успенский никак не мог решиться на публикацию, поскольку, как он узнал, некоторые основные идеи его книги были гораздо лучше и яснее изложены в «Баалзебубе». Наконец он решил, что в собственных же интересах не будет публиковать книгу.
Не знаю, что в действительности Гурджиев думал об Успенском, но почти всегда он говорил о нем в уничижительном тоне, как о человеке, воспользовавшемся его идеями, доведшем до беды и даже до смерти, как в случае Ферапонтова и Иванова, многих учеников, и который «сдохнет, как собака», если не оставит Гурджиева в покое. Последнее определение, высказанное перед пятьюдесятью или шестьюдесятью учениками и друзьями в Нью-Йорке, вызвало настоящий взрыв, чего, видимо, и добивался Гурджиев. Один храбрый молодой человек подскочил и крикнул: «Если бы не мистер Успенский, нас бы сейчас здесь не было!» Гурджиев парировал: «В чем прок от того, что Вы здесь? И Вы подохнете, как паршивый пес». Часто Гурждиев сетовал, что Успенский портит его учеников слишком интеллектуализированным подходом, лучше уж обучать людей, которые вообще ничего не знают, чем прошедших через руки Успенского. С другой стороны, он высоко ценил точность записей Успенского. Однажды я прочел ему одну из первых глав «В поисках чудесного». Он слушал с явным удовольствием и по окончании заметил: «Я ненавидел Успенского, теперь я полюбил его. Это в точности то, что я говорил».
Однажды он пожаловался мне на учеников Успенского, когда мы были одни, и я осмелился спросить, испорчены ли также и мои ученики. «Нет,» -сказал он. «Ваши не испорчены, они просто помешанные. Но с безумцами я могу что-то сделать, а с испорченными – нет». Вся его работа с моими учениками и была направлена на разрушение того, что дал им я в Кумб Спрингс. Услышав, что он говорит обо мне как о незрелом, беспечном и бесполезном учителе, и что он ничем не может мне помочь, и лучшее, что они могут сделать, – это найти кого-нибудь другого вместо меня, я не особо расстроился. Во-первых, так оно и было, а во-вторых, он всегда разрушал всякую личную привязанность, в первую очередь к себе, а затем и ко всем остальным.
Словами не выразить ту атмосферу удивления, напряжения, подозрительности, раздражения, безнадежности, восхищения, абсолютной радости и крайнего уничижения, которую ухитрялся создать вокруг себя Гурджиев. Вернувшись из Вашингтона в Нью-Йорк, я окунулся как раз в такую атмосферу. Днем раньше Гурджиев объявил о своем дне рождения и настаивал, чтобы всем его ученикам, настоящим и будущим, было послано совершенно бесплатно циркулярное письмо. Он пожелал также, чтобы оно было переведено на четыре языка и распространено по всему миру, включая Россию. За обедом завязалась оживленная дискуссия по поводу содержания письма, но он отмел все предложения. Ко мне Гурджиев относился с преувеличенным почтением, как к «уважаемому представителю Англии». Я предчувствовал, что это не сулит ничего хорошего, но не мог понять, в чем дело. В Нью-Йорке Гурджиев демонстрировал фотографии Chateau de Voisins, некоторым говоря, что он купил дворец, а другим – что собирает деньги для его приобретения. Каждому, кто вложит в покупку $5000, он обещал постоянное место в Chateau. За обедом накануне своего дня рождения он связал Chateau и «Баалзебуба», сказав, что после публикации потребуется очень много места, поскольку тысячи людей устремятся к нему. Он даже заговорил о восстановлении Института Гармоничного Развития Человека и о том, что он сделает Chateau de Voisins своим мировым центром.
На следующее утро я отправился в «Детское кафе» на пересечении Пятой авеню и 56 улицы, которое считалось его «нью-йоркским офисом». Не могу припомнить, велел ли он мне прийти, или это была моя идея. Он сидел за столиком один. Заказав мне чаю, он молча подождал, пока я его выпью, и сказал: «Теперь Вы напишете письмо». Я спросил лист бумаги и стал писать, не понимая, что я пишу. Через несколько минут письмо было готово. Стиль был совершенно не мой. Я употребил слово «адепт» вместо «ученик», чем был чрезвычайно раздосадован, поскольку «адепт» резал мне слух и от него слишком уж явно попахивало оккультизмом. Он приказал: «Прочтите!» И я стал читать письмо вслух:
6, Улица полковника Ренальда
Париж, 17
13 января 1949 года
Настоящее циркулярное письмо направляется моим теперешним и будущим адептам и всем, кто прямо или косвенно столкнулся с моими идеями и понял, что они содержат нечто необходимое для блага человечества. Через полвека подготовки, преодолев множество трудностей, я наконец решил опубликовать первую серию моих работ, собранную в три книги под названием «Объективная беспристрастная критика жизни человека, или рассказы Баалзебуба своему внуку». Этой публикацией начинается исполнение моих планов по передаче моих идей всему современному и будущему человечеству. Для выполнения этой задачи мне потребуется помощь всех, кто хоть сколько-нибудь проникся значением моих идей, и особенно тех, кто достиг собственных успехов в их изучении. Я настаиваю, чтобы первые издания моих работ были бесплатны и доступны всем, кто в них нуждается. Первое издание проходит сейчас подготовительную стадию и выйдет одним томом объемом в 1000 страниц на четырех языках. Распространение такой книги стоит чрезвычайно дорого, поэтому я прошу Вас и всех моих учеников купить один экземпляр первого издания за 100 фунтов. Те, кто купят более одного экземпляра, сделают бесплатные издания доступными для большего числа людей. Те, кто не в состоянии купить экземпляр в одиночку, могут купить его сообща.
Только так те, кто получил реальную помощь от соприкосновения с моим учением, смогут как-то отплатить за это и собрать тот урожай, который я посеял.
Г. Гурджиев.
Он молча взял листок, поднялся и вышел.
В тот же день за ланчем он, достав письмо из кармана, протянул его мне, сидевшему рядом с ним, и попросил прочитать, будто я никогда его не видел. Все присутствующие были единодушны в том, что написанное очень верно, что только мистер Гурджиев мог так написать и тому подобное. Я молчал, понимая, что стал жертвой передачи мыслей или внушения, в которое так любил играть Гурджиев.
Затем он сказал: «Мне потребуются представители для Франции, Англии и Америки». Для Англии он назвал меня, лорда Пентланда – для Америки и М. Рене Зубера – для Франции. Письмо должно распространяться во всех странах, и каждый должен был заплатить за него 100 фунтов или эквивалент в долларах или франках.
После обеда был детский праздник. Гурджиев превосходно общался с детьми, считая их неиспорченным материалом, и очень осторожно обучал их. Его спрашивали, как объяснять детям идеи учения. Он отвечал: «Никогда не действуйте прямо. С детьми надо начинать издалека. Дети должны все находить сами, иначе они вырастут рабами». Это не означало, что они должны делать все, что им вздумается. Напротив, он был сторонником очень строгой дисциплины и подчеркивал, что дети всегда должны быть готовы стать членами того общества, в котором им случилось оказаться, но при этом всегда вести себя естественно. Можно составить ценную книгу из описаний тех неисчислимых способов, которые использовал Гурджиев, чтобы показывать родителям верный путь обращения со своими детьми. Детям же он всегда говорил: «Любите своих родителей. Родители должны быть для вас Богом. Кто не любит родителей, не любит и Бога».
Детский праздник окончился, взрослые либо ушли, либо занялись приготовлением ужина. Я остался с ним один. Он сидел на низком диване в гостиной. Я присел рядом и поблагодарил его. Он покачал головой: «То, что я сделал для Вас до этого момента, – ничто. Вскоре я возвращаюсь в Европу.
Если Вы будете делать то, что я скажу, я научу Вас, как стать бессмертным. Сейчас у Вас ничего нет, но, работая, Вы быстро обретете душу». Это был редкий момент в моей жизни, ведь с 1932 года он во второй раз говорил со мной серьезно, и я знал, что со своей стороны он сдержит обещание.
Я не стану описывать потрясающие события, наполнившие праздничный вечер его дня рождения, за десять месяцев до его смерти. Через два дня я отбыл в Англию и с головой ушел в работу в лабораториях. Я должен был наверстать упущенное предыдущим летом. Исследовательские лаборатории Powell Duffryn переживали свой расцвет. Работа сама по себе доставляла мне наслаждение. Нас полностью поддерживали директора, а плоды многолетнего лабораторного труда созрели для коммерческого использования. Приехав на большую фабрику, где полным ходом шла работа над массовым производством деланиума, я был поражен трансформацией моего детища.
Я был готов бросить все и идти за Гурджиевым куда угодно. На мой вопрос, что нужно делать, он ответил: «Занимайтесь тем же. Ничего не меняйте. Наибольшую пользу Работе Вы принесете, оставаясь в Англии». Он уверил меня, что мой успех в делах послужит ему, Гурджиеву, на пользу, поэтому я отдавал все свои силы работе в лабораториях.
Я встретил Гурджиева по возвращении в Шернбурн. Едва сойдя с трапа, он велел мне проглотить две пилюли, сказав, что через полчаса я должен буду выполнить несколько упражнений. Было очень странно сидеть вдвоем, скрывшись от суматохи и криков, сопровождавших прибытие огромного лайнера.
Так начинались самые тяжелые и болезненные восемь месяцев моей жизни. Важнейшие их события практически не поддаются описанию, будучи столь интимными, что рассказ о них подобен публичной исповеди.
С одной стороны, Гурджиев показал мне набор упражнений для контроля и трансформации психических энергий в человеке. С другой стороны, он проделал грандиозную работу по разрушению ближайших и наиболее дорогих для меня отношений. До этого он обращался со мной и моей женой как с единым целым, но теперь он всеми силами старался поставить нас в очень трудную ситуацию. Он сказал моей жене, что я должен научиться обходиться без нее и освободиться от привязанности ко всякой женщине, и к ней в том числе. Это было тем более невыполнимо, что со времен ужасной недели, начавшейся 9 августа, пережитой совместно с Элизабет Майал, между нами установилась глубокая привязанность. Она же, со своей стороны, все надежды связывала с Гурджиевым. Год назад она пережила тяжелое внутреннее отчаяние. Я посоветовал ей уехать из Кумб Спрингс и пожить в Париже, попросив Гурджиева принять ее в ученики. Я считал, что в таком невыносимом состоянии может помочь только полнейшая трансформация. Она последовала моему совету и в итоге общалась с Гурджиевым больше, чем я. Она сопровождала его в поездках в Виши и другие французские города. Из Америки он привез дочерей нескольких своих старых учеников и теперь занимался с ними ритмическими движениями с целью сделать из них инструкторов. Одна из них, Иованна, дочь известного архитектора Франка Ллойда Райта, стала практически экспертом и позднее преподавала гурджиевские движения молодым архитекторам в Талиезине. Девушек шутливо называли «телятками», и Элизабет, будучи гораздо старше, считалась одной из них. Гурджиев наделил ее особыми полномочиями, и я думаю, только Лиза Трэкол проводила с ним больше времени, чем она, пропадавшая у него в номере помногу часов в день. Он доверял ей выполнение многих деликатных поручений.
Я не предполагал, что Гурджиев использует мои личные близкие отношения, чтобы создать практически невыносимое напряжение между мной и ближайшими мне людьми. Но и этого было мало: он безоговорочно требовал от меня действий, подрывающих мою репутацию, приобретенную в течение пятнадцати лет в угольной промышленности. Весной и летом 1949 года я должен был отказаться от с таким трудом установленных с тех пор, как я отделился от Успенского, условий работы, в которых я всегда оставался лидером. Теперь я стал учеником наравне со всеми и учился всему с нуля. В то время я совершал множество ошибок, каждую из которых Гурджиев непременно использовал для оттачивания своей язвительности.
Одним из немногих просветов в тот мучительный год было значительное улучшение здоровья моей жены. Она несколько раз приезжала к Гурджиеву, и, видимо, он убедил ее в целесообразности такого отношения ко мне, поскольку, страстно восстающая против него сначала, впоследствии она приняла его необходимость и надеялась только на то, что я сумею достичь того, что от меня требуется. Если бы я это понял, возможно, мне было бы легче, но пока я терялся в догадках.
Практически каждые выходные я летел или ехал машиной в Париж, захватив с собой нескольких учеников. Каждый раз меня уже ждали очередные задания. От него требовали помощи по всей Европе, и он часто посылал меня организовывать новую группу или встречать какую-нибудь важную персону. Я научился отказываться от того, что было совсем не в моих силах, но и без этого я делал слишком много. Теперь я понимаю, что, делая меньше, я упустил бы возможности, которые больше никогда бы не представились.
Однажды в мае я приехал в субботу как раз к ланчу. Гурджиев спросил, есть ли у меня группа в Голландии. У меня не было с Голландией никаких связей. Он возмутился: «Как же так? Мне нужна группа в Голландии. Вы должны ее организовать». Элизабет, сидевшая, как всегда в углу за пианино, сказала, что у нее есть школьная подруга-голландка, которая сейчас живет в Гааге. Он заметил: «Она может помочь. Напиши ей».
Мы как раз организовывали занятия ритмическими упражнениями, или «Движения», в Лондоне, поэтому я не принял всерьез голландский проект. Гурджиев частенько настаивал на жизненной важности какого-нибудь плана, позже никогда к нему не возвращаясь. Так, его предложение арендовать Chateau de Voisisns больше никогда не упоминалось, а сейчас он вел переговоры об аренде гораздо меньшего помещения.
На следующие выходные, приехав в Париж, я был встречен вопросом, что я сделал в Голландии. «Пока ничего», – ответил я и был буквально оглушен криком: «У меня нет времени! Ты думаешь, я буду жить вечно? Мне нужна связь с голландцами из-за Индии. Ваша английская Индия меня не интересует. Мне нужна голландская группа для связи с голландской Индией». Я не понял, к чему он вел, но по крайней мере, было ясно, что он говорит серьезно. Элизабет написала подруге, бывшей секретарем Международной Ассоциации по охране пастбищ и знакомой со многими полезными людьми. В результате меня пригласили прочитать лекцию в Гааге о Гурджиевской системе; голландская группа начала свое существование. Только через девять лет, с приходом Субуда, я понял настойчивость Гурджиева в установлении контактов с голландской Индией.
Свой день рождения – 8 июня – я праздновал в Париже. Гурджиев специально для меня играл на органе. Слушая, я осознал, что был отброшен назад, что должен установить с ним новые отношения, что он открыл дверь, в которую я не могу войти из-за грубости своего восприятия. В то время Гурджиев дал мне духовное упражнение, которое полностью сбивало меня с толку. Оно требовало состояния застывшего равновесия между всеми психическими функциями и отсутствия любого усилия или принуждения со стороны внимания. При объяснении оно показалось мне простеньким по сравнению со сложнейшими и труднейшими упражнениями, связанными с контролем над энергиями ощущений, чувств и мыслей, которые я практиковал ранее. Крайняя простота оказалась и крайне трудно выполнимой. У меня ничего не получалось, и я решил, что должен ухитриться пожить в Париже полностью под его руководством. Я отменил планируемый семинар в Кумб Спрингс – впервые за пятнадцать лет там не было совместной работы в августе – и взял четырехнедельный отпуск. Двадцать первого июля я начал вести дневник и продолжал так в течение двух лет, стремясь не столько записывать события, сколько отражать в нем внутренний опыт. Перечитывая его страницы одиннадцатью годами позже, я понял, как днем и ночью стремился к очень незначительной цели. Каждое слово свидетельствует об отсутствии понимания того, что от меня требовалось. Я был убежден, что должен обрести власть над своими телесными и психическими функциями исключительно путем болезненных упражнений. Особенно я был смущен и оскорблен тем, как публично и в частных беседах Гурджиев говорил о сексе. Его высказывания о женщинах скорее приличествовали фанатику-мусульманину, нежели христианину: он хвастался, что имеет множество детей от разных женщин и что женщины для него – это лишь возможность кончить. Общее впечатление от его слов шокировало тех, кто считал секс священным, даже если их собственное поведение в этой области было далеко от святости. Гурджиев всегда выставлял на показ худшее, пряча лучшее глубоко внутри.
Иногда к нему в Париже приходили молоденькие женщины. Он безбожно с ними заигрывал и приглашал прийти к нему домой вечером, попозже. Думая, то это некая мистическая проверка, или из чистого любопытства многие из них приходили. Насколько я знаю, Гурджиев открывал дверь, удивленно выглядывал и, спросив: «Зачем это Вы пришли?», протягивал горсть конфет и сылал гостью домой. Однако его поведение неизбежно трактовалось по-всякому. Встревоженные родители засыпали меня вопросами, должны ли их дочери спать с ним. Я обычно успокаивал их: «Разумеется, нет. Он просто хочет удостовериться, что у вас достаточно здравого смысла и силы характера, чтобы разобраться, где правда, а где ложь». Несмотря на это я должен сказать, что советы, которые он раздавал мужчинам и женщинам постарше, приводили ко множественным беспорядочным связям. Вся атмосфера, окружавшая Гурджиева, была пропитана лихорадочным возбуждением, и разобраться , что верно, а что – нет, было крайне непросто.
Поступки самого Гурджиева проистекали из его глубочайшего и непосредственного осознания нашей зависимости от милосердия Божьего. Однажды вновь прибывший пересказал за столом злобную сплетню о ком-то из присутствующих. Гурджиев, до того мирно подшучивавший над всеми, замолчал и сказал очень серьезно: «Каждое творение наделено самолюбием, с которым мы должны считаться». Несомненно, его работа была направлена на освобождение человечества от зависимости от мнений окружающих. Но это означало, что они не должны зависеть и от него самого, что накладывало на него тяжелую задачу. Я доверял Гурджиеву и полностью верил в его доброту, но, оставаясь в Париже, я изводил себя сомнениями, смогу ли я найти свой собственный путь. Однако решение было принято. Но перед тем как рассказать о последовавших драматических неделях, я хотел бы упомянуть еще о трех событиях лета 1949 года.
Королевское Общество опубликовало статью «Унифицированная теория поля», над которой в течение многих лет работали Тринг, Браун и я. Мы представили ее годом раньше, как раз перед моим отъездом в Америку, и получили множество критических отзывов. В ее доработке принимал активное участие один блестящий математик, сейчас член Королевского Общества, пожелавший остаться неизвестным. Она почти не привлекла внимания, Успенский оказался близок к истине, говоря о ней: «Ну, вот еще одна физическая теория». Однако трое неакадемических ученых могли вполне гордиться тем, что их статью приняло самое требовательное научное общество в мире.
Вторым событием было приглашение докторессы Марии Монтессори принять участие в образовательном семинаре, проводимом в ее честь в Сан Ремо. В Кумб Спрингс в течение нескольких лет действовала экспериментальная школа Монтессори, однако наша дружба была мало связана со школой, а скорее проистекала из общего ощущения единства человечества.
Третьим событием стало приглашение правительства Цейлона занять пост советника по развитию промышленности. Я знал, что они обратились за рекомендациями в Королевское Общество, и сэр Альфред Эгертон, секретарь физического отделения, зная мой интерес к Востоку, назвал мое имя. Правительство настаивало на подписании пятилетнего контракта. Работа была очень заманчивой, я так давно хотел побывать на Цейлоне, но не мог оставить Гурджиева на столь длительный срок, если бы только он не счел это действительно полезным. Я посоветовался с директоратом Powell Duffiyn. Они сочли это намеком на мое недовольство теперешним положением и предложили мне на пять лет занять пост главы исследовательских лабораторий трех дочерних компаний. Я был уверен, что вскоре отойду отдел, и отказался. Гурджиев в ответ на мой рассказ сказал: «На один год можно было бы согласиться, но не на пять лет. Вы потребуетесь мне через год в Европе и Америке».
Оглядываясь назад, я с трудом могу поверить, что он действительно рассчитывал на меня. Идея работы над собой у меня выражалась в создании как можно более неприемлемых и тяжелых условий жизни. Приведу пример тех усилий, которые я предпринимал, чтобы достичь наконец другого состояния сознания. Поскольку у нас не состоялся регулярный семинар, я предложил сорока ученикам провести выходные в Кумб Спрингс и прочитать «Баалзебуба» от начала до конца. Издание книги содержало 2100 страниц – это более полумиллиона слов. Я прочел все их вслух: четыре часа – чтение, два часа – отдых и еда и так далее днем и ночью. К концу у меня так распух язык, что я пил ледяную воду, чтобы не прикусить его. Другим тоже пришлось нелегко: в течение шестидесяти часов выслушивать сложный текст. Мы закончили вечером в понедельник, устроив пир из рисового плова с жареным мясом. Рис был привезен из Персии самим Гурджиевым. В него пошло два с половиной фунта масла, три пинты молока и пятьдесят четыре яйца. В то время в Англии все еще были продовольственные ограничения, поэтому каждый участник принес одно-два яйца с собой.
Сегодня я спрашиваю себя, принесли ли эти усилия хоть сколько-нибудь пользы. Думаю, да; более того, они были совершенно необходимы. За ними стояла регулярная ежедневная тренировка тех упражнений, которые преподал мне Гурджиев. Но мне кажется, я мог бы меньше насиловать себя и остальных, а больше внимания уделять духовным упражнениям, истинное значение которых я осознал много лет спустя.
Пятого августа вместе с женой я прибыл в Париж. Начинались ритуальные чтения и приемы пищи дважды в день. Гурджиев зачем-то заставил меня три или четыре раза прочесть главу из третьей части «Все и вся», называвшуюся «Жизнь реальна только тогда, когда Я Есть». Мы называли ее коротко «Я Есть». В ней говорилось о том, как молодой Гурджиев запрещал себе использовать собственные огромные психические способности, кроме как для лечения больных и помощи. Живо описывались те выходящие за пределы разумного требования, которые предъявлял себе Гурджиев на протяжении своей жизни. Что он имел в виду? Что я должен быть еще более требовательным к себе? Наверное, я неправильно понял его тогда, видимо, на самом деле он пытался показать бесполезность любого издевательства над собой, физического или эмоционального; единственное, что действительно необходимо, иметь «фактор напоминания,» который не дает нам спать. Это не должно быть болезненным, ведь и власяницу человек перестает замечать, когда кожа привыкает к раздражению.
Наконец кое-что начало проясняться. Гурджиев требовал от меня все болыпего и большего. Требования часто были абсурдны и даже невыполнимы. под их давлением я в итоге научился говорить «нет». Осознание этого было подобно ослепительному свету. Неумение сказать «нет» было моей величайшей слабостью. Он довел ее до крайней точки, без объяснений, почему и что он делает, поскольку объяснения погубили бы всю работу.
Я рассказал об этом жене, которая, с сожалением поглядев на меня, ответила: «И ты только теперь это понял? Я пыталась много лет объяснить тебе это, но как обычно, ты ничего не хотел слышать». Я не слушал никого, но Гурджиеву доверял безоговорочно. Жена должна была вернуться в Англию. Прощаясь, она сказала: «Любой ценой делай все, что он говорит. Для нас это тяжело – но я готова на все. Пока ты не сделаешь этого, одна я не смогу тебе помочь».
До поры до времени Гурджиев ловко ускользал от моих попыток поговорить. В конце концов, мне удалось поделиться с ним всем тем, к чему я пришел. Его комментарий звучал так: «Физические усилия не нужны». О статье в Королевском Обществе: «Математика бесполезна. Законы Мира Творчества и Мира Существования не поддаются математическому изучению. Ищи Суть. Когда ты найдешь ее, все это ты узнаешь и без математики». Я начал было распространяться о целях моих математический упражнений, но вовремя прикусил язык, потому что Гурджиев как раз принялся объяснять мне некоторые аспекты внутренней жизни человека, что было совершенно бесценно.
Несколькими днями позже я пережил опыт отделения от тела без особых условий, сопровождавших предыдущие разы. Перед ужином я читал вслух. Внезапно я оказался на несколько футов вне своего тела. Мой голос продолжал звучать, но я воспринимал его не как свой, а как чужой. Я спросил себя: «Как это он может читать? Он даже не знает правильных ударений!» Я посмотрел на остальных, интересно, догадываются ли они, что читает только оболочка? Знает ли об этом Гурджиев? В этот момент тело подняло глаза и встретилось взглядом с Гурджиевым. Не знаю как, но я тут же очутился в своем теле и продолжал читать. Ощущение отделейности от тела продолжалось несколько часов, хотя я и оставался внутри.
Так начиналась лавина потрясающих переживаний, обрушившихся на меня в последующие четыре недели. Я стал осознавать работу внутренних органов, например, своей печени. Однажды утром я понял, что могу полностью контролировать эмоциональные состояния. Я обнаружил, что могу знать, что происходит в других местах. Я позвонил жене в Лондон и убедился, что она действительно разговаривала с домработницей и я правильно узнал содержание разговора. За едой Гурджиев вел со мной потрясающие беседы. Однажды негромко, специально для меня, он заговорил о Тайной Вечере и роли Иуды.
По его словам, Иуда был лучшим и ближайшим другом Христа. Он один понимал, что делает Христос на земле. Иуда спас дело Христа от гибели и тем самым сделал сносной жизнь людей на пару тысячелетий. Затем он внимательно взглянул на меня и произнес: «Ведь церковь учит совсем по-другому. Чему веришь ты?» Что я мог ответить? Я принял на веру оценку религии, данную Гурджиевым в 38 главе «Все и вся». Но сейчас от меня требовалось собственное суждение.
Пропала многолюдная столовая, словно бы Гурджиев перенес меня в Иерусалим 33 года н.э. Казалось, я бывал там раньше, но это не имело значения. Я явственно ощущал присутствие грандиозных сил: добрые силы боролись с силами зла. Иуда был несомненно на стороне добра. Это все, что мне требовалось узнать, и в следующий момент мы оказались дома, за столом, и я заговорил, обращаясь к Гурджиеву: «Правы Вы. Иуда был другом Иисуса, и он был добр». Очень тихо Гурджиев произнес: «Рад, что ты это понял». Его слов почти не было слышно, и кто-то с другого конца стола переспросил, о чем он говорил. Он покачал головой: «Я говорил только для него. Однажды мистер Беннетт прочтет лекцию о Тайной Вечере, и многие будут очень благодарны ему». Это было лишь одно из множества его сбывшихся пророчеств.
Несколько раз он сопоставлял мое отношение к нему с отношением Иуды к Христу. Однажды, указав на меня и моего старого друга, сидевшего рядом, он произнес: «Мистер Беннетт похож на Иуду, он отвечает за то, чтобы мое дело не умерло. А он – Павел, он будет распространять мое учение». В будущем исполнилась по, крайней мере, вторая часть его пророчества: мой друг возглавил работы по публикации «Все и вся». Выполнил ли я свою миссию, осталось неясным. Однажды Гурджиев сказал: «Иуда – тип универсальный. Его можно найти в любой ситуации, но собственного лица у него нет». Примерно также и я оценивал себя. Все, сказанное мне Гурджиевым летом 1949, указывало на некую особую роль, которую мне придется играть в будущем. В это же время Гурджиев стал поговаривать о своей кончине. Он никогда не употреблял слово «смерть», называя ее уходом далеко-далеко. Я и не догадывался, насколько серьезны его предостережения и слова, что он скоро умрет. Однажды приезжий из Америки спросил: «Ах, мистер Гурджиев, что же мы будем делать, когда Вы умрете?» Он свирепо ответил: «Я Гурджиев! Я не умру».
Поток посетителей из разных концов света все возрастал, каждый требовал личной беседы с Гурджиевым. Последний никому не отказывал. Атмосфера невероятного напряжения сосредоточилась не только в его квартире, но распространилась на близлежащие отели, заполненные его гостями, на Белфаст, Рена и Сан Ремо, охватила кафе, в которых мы встречались и беседовали далеко за полночь, студию Сал Плэйел, где несколько раз в неделю проходили уроки движений, – он редко пропускал их.
В августе я отсутствовал в Париже всего два дня. В это время я находился в Сан Ремо на конференции Монтессори. Там я говорил о необходимости учить детей работе над собой. К восхищению самолично председательствовавшей докторессы, я говорил по-итальянски. Освещая эту конференцию, итальянское радио упомянуло и гурджиевские идеи о роли учителей. Когда я вернулся в Париж, он с удовлетворением заметил: «Может быть, это слышал и Папа Римский. Однажды в папском дворце прочтут «Баалзебуба». Может, и я там буду».
Летом, до моего приезда, Гурджиев предпринял несколько длительных автомобильных поездок со своими «телятками» в Женеву, Дьепп, Канны, Виши. Много раз я слушал отзывы об этих потрясающих путешествиях и надеялся когда-нибудь тоже принять в них участие. Между тем, Гурджиев выглядел более уставшим, постаревшим и передвигался с большим трудом, чем год назад. Несмотря на это, он запланировал еще одну поездку. Он хотел посмотреть доисторические наскальные рисунки в пещерах Ласкокс, достоинство которых я ему неоднократно с воодушевлением живописал.
Последний раз в жизни Гурджиев отправился в путешествие в Виши и Ласкокс. Мы поехали на трех автомобилях, некоторые – поездом, чтобы присоединиться к нам в Виши. Одна из неожиданностей, мастером создания которых был Гурджиев, состояла в том, чтобы отправляться раньше назначенного времени. Тот, кто не знал этого, приходил точно вовремя и обнаруживал, что час назад все ушли. Поэтому участники всегда собирались загодя. Невестка Гурджиева, Лиза Трэкол, его племянница Люба и остальные приближенные время от времени выглядывали из окон квартиры. Начиналась загрузка машин. Он всегда брал с собой огромные корзины с едой, в соответствующее время года в кузове были арбузы. Объемистый багаж “теляток” закрепляли на крышах автомобилей, в то время как они бесцельно прохаживались по улице с таким видом, будто им все происходящее смертельно надоело – так оно и было на самом деле. Наконец, появлялся Гурджиев с сигаретой в большом черном мундштуке, в красной феске, небрежно закинутой на затылок и бумажником, набитым тысячефранковыми банкнотами.
На окраине Парижа мы потеряли Гурджиева из виду, чтобы по странной случайности встретиться с ним ночью. Была уже почти полночь, но служащие отеля любезно собрали для нас холодный ужин, к которому была добавлена икра и другие деликатесы, захваченные в Париже. Где бы Гурджиев ни останавливался, даже на ланч, ритуальный порядок тостов никогда не нарушался. Он был хорошо известен и популярен повсюду.
Из бесед в Виши нам открылись новые и чудесные перспективы. Однажды он заговорил о «Внутреннем Боге», направляющей силе всех наших поступков. Он сказал: «Научитесь подчиняться Внутреннему Богу, это в тысячу раз лучше, чем десятку командиров, которые только указывают нам, как жить, но не могут помочь человеку работать». В тот же вечер, он заговорил о бессмертии: «Бессмертие – это очень много, но это еще не все». Он указал на меня и добавил: «Есть два типа бессмертных. Вот у него есть тело Кесджан. Оно бессмертно, но не по-настоящему. Истинное бессмертие приходит вместе с высшими телами. У него есть тело для души – но должно быть также тело для «Я».
Тут он стал объяснять различие между Раем и тем, что он называл Солнечным Абсолютом. «В Рай попадают с телом Кесджан. Но больше двух-трех дней там нечего делать. Представьте, что находитесь в Раю год, другой, сто лет. Нельзя удовлетвориться Раем – нужно найти дорогу в Солнечный Абсолют».
Для тех, кто не знаком с языком и методами Гурджиева, этот разговор мало что значит. Но для меня он стал огромным шагом вперед к выполнению обещания, данного им в Нью-Йорке, восемью месяцами раньше. Потрясенный, я не мог заснуть всю ночь.
Он отправился осматривать пещеры в Ласкоксе. Автомобильный переезд утомил его, ноги угрожающе отекли. Но он настаивал на спуске в пещеры. Рассматривая рисунки, он, казалось, был полностью погружен в них. Он объяснял различные символы, особенно он остановился на одном странном животном, которое было, как сказал он, подобно сфинксу, эмблемой эзотерического общества. Я переспросил: «Символом?» Он отрицательно покачал головой: «Нет. Эмблемой. То было время обществ с тайными знаниями, и каждое из обществ имело свою эмблему, по которой его члены узнавали друг друга. Так же, как Эннеаграмма у нас». Он пояснил, что олень служил тотемом отдельного человека. По количеству ветвей рогов судили о достижениях человека. Он купил всем фотографии рисунков. Специальный альбом предназначался Иованне Ллойд Райт. Она должна была передать его отцу и сказать, «что такое место существует».
Мы возвращались. Одна из трех машин была сразу отослана в Париж. Он посадил в свой автомобиль четверых, я последовал за ним, памятуя об обещании, данном мадам де Зальцман. Он, однако, всячески старался показать, что мое общество ему в тягость. Наконец, в Тулли, больше не церемонясь, он отрезал: «Мне направо, тебе налево». Я попытался поговорить с ним: «Что же это означает, что мы должны попрощаться с Вами?» «Да, прощайте», – коротко бросил он и, выпив стакан ледяного вителузского, умчался к Клермонт Ферранд. Мы повернули на север, через Юзерч, по пути в Париж остановились в Фонтенбло и навестили Prieure, который двое моих спутников никогда не видели прежде. Мы побывали и в привокзальной гостинице в Ла Гранде Пароссе на Сене, о ее покупке Гурджиев как раз вел переговоры. Он уже давно отказался от мысли арендовать большой замок. Его нынешние планы звучали чудесно: позади гостиницы, на пирамидальном склоне, будет выстроено здание, и в будущем оно станет центром его работы. Без такого места, где люди смогут жить и работать вместе, говорил он, его метод не принесет результатов. Его описание было пронизано глубоким значением, передаваемым символизмом. «На вершине холма будет дом для отдыха, и доступ туда открыт только ближайшим ко мне людям. Внизу – здание, как Дом для Обучения движениям, занятий и лекций, а под ним – комнаты для гостей. К каждой стороне гостиницы вдоль улиц поднимается путь. Этот двойной путь выложен мозаикой. Я специально приглашу архитекторов, чтобы сделать этот путь, там будет множество камней различного цвета». Однажды присутствовавший при разговоре молодой англичанин-архитектор с бородкой, которую он называл мефистофельской, вмешался и предложил: «Я могу найти вам отличных художников по мозаике здесь, в Париже». Гурджиев обернулся к нему и с уничтожающей усмешкой обронил: «Идиот! Мозаику, которая нужна мне, не может сделать ни один художник!» Всем, кто был посвящен в его идиомы, было ясно, что мозаика означает его учеников из всех стран и национальностей, а три здания представляют три тела человека.
Утром, когда Гурджиев вернулся в Париж, я пережил видение об ужасе реинкарнации. Вновь пришло состояние отделения от тела и от ума, но в этот раз казалось, будто я умер, не выполнив своего предназначения, и должен оставить «все это» и жить сначала в новом теле, с новым умом и новыми эмоциями. Я пережил весь ужас этой ситуации. Так и должно было произойти, если я не обрету высшее тело, о котором Гурджиев говорил в Виши. Еще мне показалось, будто раньше со мной такого не случалось – мне удавалось избежать этой судьбы. Но все растворилось в смутных образах, и больше ничего определенного я не увидел.
Вернувшись, Гурджиев стал обращаться со мной, как с отверженным. За ланчем он пожаловался, что из-за отсутствия общества он почти не мог, есть во время путешествия, а когда я сказал: «Но Вы сами отослали меня!», он почти прокричал в ответ: «Но Вы сказали, что отправляетесь за женой – а оказалась, что все это время она была здесь. Вы все время лжете. Ваше поведение отвратительно». При каждой возможности он говорил, что я разочаровал его. Я впал в отчаяние и желал смерти. Жена, которая действительно приехала в Париж вслед за мной, тоже сильно огорчилась. Нам обоим казалось, что время прошло впустую, хотя я изо всех сил старался следовать его руководству. Я так и не смог понять, что от меня требовалось, а это, согласно гурджиевским представлениям, было тягчайшим грехом. Каждый должен делать то, что понимает, но непонимание – это грех против Святого Духа, не прощаемый ни в этом, ни в каком другом мире.
Четвертого сентября, в воскресенье, оканчивался месяц моего пребывания в Париже. Ночь накануне я провел в умственной агонии. Утром я отправился в гурджиевское кафе на Rue des Acacias, я видел из окна, как Гурджиев шел туда мимо моемо отеля. Когда я пришел, он не позволил мне сесть рядом, злобно заметив, что я отпугиваю его клиентов. Я присел поодаль. В течение получаса между нами держался барьер враждебности. Затем я заговорил с ним о денежных делах, которыми он просил меня заняться, и он коротко отвечал мне. Чуть расслабившись, он заговорил о ком-то из больных, кого он буквально поставил на ноги, и об обязательстве много за это заплатить. Я понял, о каком случае идет речь, ему действительно удалось почти чудо, которое, однако, не было должным образом оценено семьей молодого человека.
Собственно, я пришел спросить его, не посмотрит ли он мою жену перед нашим отъездом в Англию этой ночью. Он считал, что ей потребуется особая помощь и велел ей приехать из Англии, пока я здесь. Хотя момент был едва ли подходящим, я все равно спросил об этом. Его голос прозвучал необычайно мягко в ответ: «Пусть придет в четверть второго». Я поблагодарил его за все, что он для нее сделал, и добавил: «За то, что Вы сделали для меня, я никогда не смогу расплатиться». Ни слова он не сказал в ответ, прихлебывая чай, словно не слыша меня.
Прошло довольно много времени. Один за другим приходили люди, спрашивали, говорили с ним. Затем мы вновь остались одни, тогда он повернулся ко мне и медленно произнес: «Ты сказал, что не можешь вернуть мне долг – это глупость. Только ты можешь. Только ты можешь вознаградить меня за мой труд. Что такое деньги? Да я могу купить всю твою Англию. Но только ты, – это было сказано с особенным ударением, – можешь отплатить мне работой. А что делаешь ты вместо этого? Перед поездкой я дал тебе задание. Ты его выполнил? Нет, и до сих пор ты противишься. Никогда ты не боролся с самим собой. Все время ты занят своим дурным животным».
Он говорил просто и тихо и хотел добавить что-то еще, но пришел один из его пациентов. Я поднялся, и он кивнул мне: «Возвращайтесь после прогулки». Я не спеша вернулся в отель, сообщил жене, что он ждет ее в четверть второго, и вернулся в кафе.
Пациент, прервавший наш разговор, оказался излеченным паралитиком, который как раз принес плату за лечение – 50.000 франков. «Ума не приложу, как он достал их», – сказал Гурджиев. «Русскому это очень трудно сделать. Но он сумел». И продолжал с доброй усмешкой: «Думаю, это имеет отношение к нашей беседе. Я не спал из-за Вас две ночи. Теперь Вы должны отплатить своей работой».
Я пытался спросить, в чем же моя ошибка, но он опять был занят. Вскоре он поднялся, направился к своей машине, повторяя: «Пусть жена придет в четверть второго».
За ланчем, после того, как он посмотрел мою жену, он заговорил о Сознании: «Сознание есть у всех. Но оно недосягаемо. Осознать возможно лишь путем настойчивой внутренней борьбы. Когда сознание и осознание работают вместе, ошибок, подобных Вашим, можно избежать».
После ланча, подвозя домой мадам де Зальцман, я поделился с ней ощущением неудачи. Она заметила: «Работа изменяет. До какого-то момента продвижение вперед очевидно. Затем наступает период такого недоумения, что очень легко неверное действие принять за правильное». Я ничего не писал о роли мадам де Зальцман, поскольку она не любила делать добрые дела на виду у всех, но для меня, как и для многих из нас, она была мудрейшим наставником и другом и помогала понять, чего же хочет от нас Гурджиев.
Возвращаясь в Лондон, я скорее мучился угрызениями совести, чем гордился своими достижениями. Мне предстояло выполнить нелегкую задачу. Я показал тем из своих учеников, которые не могли ездить в Париж, некоторые из простейших упражнений, освоенных мной с Гурджиевым. Узнав об этом, Гурджиев сказал: «Это крайне плохо. Вы затруднили мою работу с ними». Так что я должен был теперь распутать ту паутину, в которой сам и запутался.
Я продолжал бороться с ощущением провала. Казалось, я способен сделать любое усилие, принести любую жертву, кроме необходимых. Вскоре, к моему удивлению, Георг Корнелиус привез из Парижа известие о том, что Гурджиев собирается в Америку и как-то обронил за ланчем: «Беннетт – мой лучший ученик, он мне нужен в Америке. Но столько дел требуют его внимания!» Вернулась моя жена и передала мне содержание их беседы накануне ее отъезда. Гурджиев считал, что может дать мне то, что мне сейчас необходимо, но это потребует времени. А пока я должен отдохнуть. Жене моей он пообещал какое-то особое лекарство, но ничего не дал ей с собой. Тем не менее она чувствовала себя лучше, и полагала, что та серьезная болезнь, о которой он ее предупреждал, отступила. По ее словам, он очень уставал, и было невыносимо наблюдать, как все буквально высасывали из него энергию. Он не отказывал никому, несмотря на растущую физическую слабость.
Я должен был как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Это было нелегко. Трудности, которые я предвидел в связи с работой в Powell Dufftyn, давали о себе знать. В один прекрасный день председатель, добрейший человек на свете и верный сторонник исследовательских лабораторий, которого некоторые из директоров считали экстравагантным, заговорил со мной о том «чудовищном вреде, который наносится нашему делу сплетнями о том, что Вы принуждаете работающих на фабрике заниматься в Вашем Институте». Это обвинение не имело под собой никакой почвы. Я никак не выделял тех, кто учился в Кумб Спрингс. Но возникновение ревности и подозрительности было неизбежно. Я требовал от тех членов персонала, которые работали в Институте, особенно внимательно относиться к работе и избегать всяческих возможных недоразумений. Но теперь мне приходилось делать выбор. Совместить работу в Кумб Спрингс с ответственной должностью было едва ли возможно: я должен был «любить одно и ненавидеть другое, оставаться верным одному и предать другое». Я хотел подать в отставку, но не думал, что время уже пришло. Мне бы хватило денег на жизнь, но я чувствовал себя обязанным довести исследовательскую работу до коммерческого успеха деланиума, чтобы оправдать возложенное на меня доверие.
Я хорошо осознавал, что мне не хватает твердости. Я был подобен хамелеону, который принимает цвет любого фона. Один человек был в Париже, другой в – Кумб Спрингс, третий в – лабораториях, один – с директорами, другой – с персоналом. Я говорил «да» всем, результатом был хаос. Самое печальное, что я ничего не достигал. Я вернулся в Париж на выходные в конце сентября. Я встретил Гурджиева в кафе и сказал, что изо всех сил стараюсь понять, что он имел в виду под «Истинным неизменяемым Я»: все, что я мог наблюдать, было чередой различных «Я». Он махнул рукой в сторону улицы. Мы сидели перед открытым окном, глядя на Тернес-авеню, под палящими лучами солнца. Он сказал: «Все эти люди ищут такси. Каждый может занять Ваше. Но Вы уже начинаете приобретать собственную машину. Вы не должны разрешать людям садиться в Ваше такси. Это и есть настоящее неизменяемое «Я» – иметь собственную машину. Сейчас Вам это не понятно, но наступит день, когда у Вас будет такое «Я», и Вы будете так счастливы, как никогда раньше».
Я еще не рассказывал о потрясающей мягкости и доброте Гурджиева по отношению к тем, кто действительно в них нуждался. За четыре недели до его смерти произошел следующий случай. Я привез к нему одну русскую даму. Она ужасно пострадала во время революции, изнасилованная солдатами в возрасте тринадцати лет. Так и не сумев забыть ужас пережитого, она смотрела на жизнь как на нечто крайне отвратительное. В гурджиевском учении она не нашла и тени того претившего ей сентиментального оптимизма и приняла его с фанатичным рвением, на которое способны русские. Когда наконец мне удалось привезти ее в Париж, Гурджиев был уже очень болен. Тем не менее он встретился с ней и обращался с ней, как с дочерью, неимоверными усилиями завоевывая ее доверие. Потом он принялся убеждать ее в особой значимости ее жизни, настаивая, чтобы она наконец позволила значению обрести реальную форму. Горькое чувство несправедливости мешало ей поверить в любовь Бога. Гурджиев объяснял, что все мы как индивидуальные сущности не являемся творениями Бога, но совокупным результатом наследственности и условий зачатия. Я никогда раньше не слышал его рассуждения о важности момента зачатия. Он описывал состояние отца и матери: как они лежат, обнявшись, и слышат звуки и шорохи, доносящиеся из сада, и очень счастливы – и так зачинается тот, кому предназначено быть счастливым. Но если они полны равнодушия, злости, или отец думает только о своей чековой книжке и о расходах, связанных с ребенком, – семя пропитывается всем этим и в образующуюся сущность проникает ненависть и скупость. Бог не несет за это ответственности. Он сделал человека чистым: если тот грязен, то по собственной вине.
Удивительно, как от этого неприкрытого описания человеческих слабостей на нее снизошло спокойствие и умиротворение. С этого момента она совершенно изменилась, словно бы ужасы прошлого стерлись из ее памяти. Я могу припомнить еще много примеров гурджиевской безвозмездной доброты по отношению к действительно страдающим людям. Но с движимыми неискренностью, ищущими выгоды для себя Гурджиев не миндальничал. Я видел дюжих прожженных дельцов, которые были так напуганы, что не могли целый день вымолвить ни слова из-за рыданий. Пришедшие поразвлечься натыкались на сквернословие или богохульство, направленные против их страны, веры и очень точно попадавшие в цель.
Так продолжалось до октября 1949 года. Я задумал прочитать в Лондоне цикл лекций «Гурджиев: делание нового мира». После первой лекции мадам де Зальцман прилетела в Лондон. Сто восемьдесят три человека встретили ее в студии в Западном Лондоне, и она дала им превосходный урок по гурджиевским ритмическим упражнениям, в которых все, молодые и старые, сильные и слабые, смогли принять участие. Я прочел главу «Я Есть» из третьего тома гурждиевской книги. Это произвело глубокое впечатление на многих из тех, кто никогда ее прежде не слышал.
Я вернулся в Париж в пятницу, 21 октября с мадам де Зальцман, убежденной, что в Англии мы организуем сильный гурджиевский центр. Мы узнали, что Гурджиеву гораздо хуже и он почти не выходит из дому, но, поднимаясь по дороге к дому, я увидел его и Бернарда, покупающих неимоверное количество бананов «для бедных англичан». В течение почти года он шутил, что бедные англичане голодают и не видят даже бананов. Его болезненный вид напугал меня, и я позвонил в Лондон жене, прося ее срочно приехать. Она не приехала со мной из-за собственного здоровья, к тому же только десятью днями раньше его доктор уверял, что особых причин беспокоиться нет и что морское путешествие в Америку поставит его на ноги. Билеты уже были куплены. Элизабет Майал должна была ехать с ним. Я в то время никак не мог надолго отлучаться из Лондона. Его физическое состояние ухудшилось катастрофически. В субботу, 22 октября, он вышел из дому в последний раз. Я нашел его одного в кафе, в котором он не был уже две или три недели, и много людей были рады видеть его. Казалось, никто не замечал, насколько он был болен. Он заговорил о будущем: «Следующие пять лет решат все. Это будет начало нового мира. Либо старый мир сделает мне «чик», либо я сделаю старому миру «чик». Тогда наступит новый мир». Он говорил немного, а когда поднялся, я увидел, что он едва может идти. Мне пришлось буквально поставить его ноги в машину, и я едва удержался от слез, видя, как он плох. Несмотря на слабость, он непременно хотел сам вести машину, хотя его ноги настолько отекли, что он не мог нажать на педали. Это была самая ужасающая автомобильная поездка в моей жизни. На Карнот-авеню на нас выскочил грузовик; Гурджиев не смог даже затормозить. Чудом мы пересекли улицу, но повернуть машину он не сумел. Наконец ему удалось затормозить. Я практически донес его до лифта. Он больше не вышел из дому, четыре дня спустя его, умирающего, вынесли на носилках.
Нестерпимо было видеть разницу между его теперешней болезнью и состоянием после аварии пятнадцать месяцев назад. Тогда он не терял жизнелюбия и интереса к будущему. Сейчас ему было все равно. Казалось, он хочет уйти, как можно скорее. Прошлой ночью он просматривал гранки американского издания «Баалзебуба» Возможно, он счел это знаком окончания своих земных дел. Я уверен, что он хотел получить доказательства того, что и в Англии будет все хорошо. Хотел он и сдержать обещание вернуться в Америку, но это уже было не в его власти.
Доктора и разные специалисты, присылаемые его учениками, не могли прийти к единому мнению. Добрая половина дюжины различных мнений обрушалась на нас, пребывающих в тревожном ожидании все воскресенье. Вечером он послал за мной. Мы пробыли с ним наедине всего двадцать минут. Лежа в постели, он заговорил о своих планах на будущее: об аренде большого участка земли за пределами Парижа, о том, что он не поедет в Америку, если найдет должную поддержку в Англии. Он сказал, что когда «Баалзебуб» будет опубликован, он хотел бы, чтобы все ученики приняли участие в распространении его по всему миру. Я не знал, что сказать. Неожиданно слова вырвались сами: «В будущем следующий год назовут годом Первым, потому что он будет началом нового века». Он странно взглянул на меня и ответил: «Очень может быть!» Он был страшно слаб и добрался до стула только с моей помощью. «Раньше со мной такого не бывало,» – сказал он. Но вся манера держаться и его слова полностью обманули меня. Я был уверен, что он вновь обретет удивительную власть над своим телом и вернет себе силы. В тот день я записал в дневнике: «У меня опять появилась уверенность». Мы с женой вернулись в Лондон, чтобы прочесть четвертую лекцию из цикла: «Гурджиев: делание нового мира». В зале насчитывалось более трехсот пятидесяти человек, и, судя по вопросам, интерес к работе Гурджиева был очень высок.
Каждое утро я звонил в Париж. Гурджиев отказывался от услуг сиделки. Прибыл его американский доктор, но из-за высокого кровяного давления он не мог ввести привезенную им сыворотку. Никто не брался ничего делать. Гурджиев принимал все решения, мадам де Зальцман подчинялась ему неукоснительно. Она не могла пренебречь его желанием, и его оставили в покое.
Доктор взял все в свои руки и поместил его в Американский госпиталь. Он сделал прокол, выпустив воду. Гурджиев ожил, курил сигарету, шутил и восклицал «Браво, Америка!» Затем он лег и больше не встал. Он мирно уснул, и постепенно его дыхание смолкло. В субботу, за час до полудня, 29 октября он был мертв. Вскрытие обнаружило полное разрушение всех внутренних органов, доктора недоумевали, как он вообще так долго прожил.
В 10 утра мне позвонила Элизабет и передала слова доктора: «По всему ему осталось жить пару часов». Мы с женой вылетели ближайшим рейсом. Элизабет встретила нас в аэропорту, и, взглянув на нее, мы поняли, что он мертв. Мы отправились прямо в Американский госпиталь, где мадам де Зальцман и Гартманы дожидались, пока тело забальзамируют.
Когда я пришел, чтобы взглянуть на него, я опустился на пол и горько разрыдался, уткнувшись в каменную стену часовни. Он выглядел невыразимо красивым со счастливой улыбкой на лице. Позже мы пришли вместе с женой и долго сидели рядом с телом. Печаль пропала, я исполнился спокойствия, а потом такой благодати, что хотелось кричать от радости.
Я был уверен, что, хотя он покинул нас навсегда, его сила осталась и работа будет продолжена. Я заметил одно явление, которое с тех пор наблюдал трижды: он продолжал дышать. Я закрывал глаза, задерживал собственное дыхание и слышал явные регулярные вдохи и выдохи, хотя больше никого в часовне не было.
Вскоре я вернулся, чтобы посмотреть, как с него снимают посмертную маску. Это разорвало последнюю связь с телом. Я не видел в нем больше никакой ценности. Лучшая из смертей – это полное отделение смертных и бессмертных частей человека: все было за то, что Гурджиев ушел окончательно и бесповоротно, ушел, чтобы никогда не возвращаться.
Глава 22
Болезненные переживания
Неделю тело Гурджиева покоилось в часовне американского госпиталя. Днем и ночью, беспрерывно, его ученики бодрствовали рядом с ним. Каждый уголок часовни был заполнен цветами, и в ней царила глубокая безмятежность. Время от времени я проводил там час-другой, как правило, после полуночи, когда почти никто не приходил и не уходил, но я чувствовал, что мы скорее отдаем ему дань уважения, чем объединения с душой покинувшего нас. Через несколько часов после смерти Гурджиев покинул пределы пространства и времени. Я убежден, что в смерти он показал нам то, чего достиг в течение жизни, что смерть – это последовательное разделение – Раскуарно – живого человека на различные составляющие, каждое из которых отправляется в присущую ему сферу. С годами во мне росла уверенность, что смерть – процесс, гораздо более сложный и многогранный, нежели это представляется людям. Трудно выразить словами, что добавил к этому убеждению уход Гурджиева. Он умер чисто, решительной смертью по собственному желанию и полностью подготовленный. Не осталось концов; ни одна его часть не задержалась, привязанная к какому-нибудь незавершенному опыту. Каждый элемент занимал свое место. Если бы меня тогда спросили, что я под этим подразумеваю, наверное, я не смог бы ответить внятно, но позднее я начал лучше в этом разбираться.
Я оказался в плачевном положении, потеряв друга и учителя в тот момент, когда крайне нуждался в его помощи, чтобы сделать следующий шаг. Неделю перед похоронами мне нечего было делать, и я мог основательно пораздумать над складывающейся ситуацией и составить планы на будущее. Ничего другого я не мог делать. Отправляясь на автомобильные прогулки за пределы Парижа с женой и Элизабет, я был то радостным и умиротворенным, то раздраженным и придирчивым. В какой-то момент просветления мы все осознали, что наши сущностные отношения с Гурджиевым никогда не оборвутся, но теперь время прошло, и мы начинали чувствовать собственную беспомощность. Ссоры, сотрясавшие французскую группу, не улучшали положения дел. Мятежники склоняли меня принять их сторону, против мадам де Зальцман или предложить какой-нибудь план действий. Контраст между безмятежностью часовни, где лежало тело Гурджиева, и неразберихой в группах отражался и на моем состоянии.
Наконец наступил день похорон. Я немного волновался, опасаясь слишком бурного выражения личных чувств. В самом деле, обстановка в русском соборе на улице Дару была пропитана эмоциональной силой, но личного в ней было мало, разве что среди тех, кто знал его как доброго старика, одаривавшего детей сладостями. Заупокойная служба в ортодоксальной церкви поражает своей красотой и глубиной символизма. Церковь была заполнена до отказа. Из Америки и Англии в Париж прилетели ученики. Пришло также много бедняков из квартала де Терне отдать дань его доброте. Мы думали, что наша способность чувствовать истощена его смертью, но в этот день было иначе, как если бы мы предвидели ту пользу, которую извлекут многие и многие из его жизни, посвященной процветанию человечества.
Вечером мадам де Зальцман собрала сорок или пятьдесят французских учеников. Среди них было несколько англичан. Она сказала: «Когда уходит Учитель, подобный мистеру Гурджиеву, его нельзя заменить. Оставшиеся не могут создать такие же условия. У нас есть только одна надежда: сделать что-нибудь вместе. То, что не может сделать ни один из нас, возможно, способна осуществить группа. У нас больше нет Учителя, но остались возможности группы. Давайте примем это за главную цель в будущем». Наблюдая за враждебностью, охватившей ближайших учеников Гурджиева, я мог только удивляться ее оптимизму, но был вынужден признать, что нам оставалась только одна надежда – объединение.
В Англии складывалась непростая ситуация. К Гурджиеву приходили люди из разных групп, недоверчиво, часто враждебно настроенных друг к другу. Они все еще остались приверженцами противоборствующих взглядов и различного понимания. Гурджиев никогда не пытался гармонизировать эти различия. Напротив, сам метод его работы предполагал необходимость конфликта. Вновь и вновь он тайно давал нескольким людям особые полномочия. Каждый был уверен, что именно ему Гурджиев поручил важное задание. Это вело к бесконечным столкновениям и непониманию, которые мы принимали за стимул к поиску более глубинного осознания. Слишком простые внешние условия могли привести нас к заблуждению, что мы понимаем и принимаем друг друга. На Доме Обучения в Фонтенбло один из афоризмов гласил: «Чем хуже условия, тем продуктивнее работа, выполняйте работу сознательно». Гурджиева бы никогда не устроила иллюзия гармонии без присутствия существа.
В циркулярном письме он назвал меня своим представителем в Англии, но я знал, что для многих моя кандидатура неприемлема. Внутренне я находился в замешательстве. Я оказался подвешенным в воздухе, хорошо понимая, что не получил от Гурджиева того последнего урока, который он обещал. Я мог продолжать выполнять показанные им упражнения, а мадам де Зальцман научила бы меня новым. Но я был убежден, что мне требуется нечто большее, чем духовные тренировки. Было даже ясно, что именно: воздействие столь глубокое, что оно позволит старому человеку во мне умереть, а новому родиться. Как-то Гурджиев сказал: «Чтобы родиться, сначала надо умереть, но чтобы родиться сознательным, надо умереть сознательным!» Все, чего я уже достиг к этому моменту, позволило бы мне сознательно умереть, но я не владел секретом смерти и возрождения. Мне казалось, что тот, кто не знает его, не может быть Учителем, в подлинном смысле этого слова, и уже одно это заставляло меня уклониться от руководства гурджиевскими группами в Англии. Помню, я сказал себе: «Если будет на то Божья Воля, ты получишь и это, но в свое время. А пока – готовься, для этого у тебя есть все необходимое».
В начале 1950 года по делам Powell Duffiyn я отправился в Вашингтон. Мадам де Зальцман жила в Нью-Йорке. Я слишком буквально воспринял ее призыв искать спасения в группе. Всюду, куда бы я ни пошел, был разброд, группы сохранялись только на словах. В Америке было две фракции: группа, основанная А. Р. Орагом двадцать лет назад, и более молодая группа, собранная П. Д. Успенским. Первая признавала только Гурджиева, а вторая смотрела на мадам Успенскую и ждала ее руководящего слова. Я с нетерпением ожидал, что падут все преграды и группы воссоединятся. Когда я сказал об этом мадам Успенской, она рассмеялась: «Мистер Беннетт всегда хочет служить человечеству. Он хочет единства, не понимая, что оно не приходит без понимания». Поговорив с ведущими членами обеих фракций, я понял, что не могу быть здесь особенно полезен, и вернулся в Англию с обновленным убеждением в том, что мое подлинное место в Кумб Спрингс. Здесь я мог внести свой вклад в работу, не выходя за пределы собственных ограничений.
Вскоре в Лондон прибыла мадам де Зальцман, позволившая себя убедить в том, что она должна взять под свою ответственность работу в Англии. Я был очень рад, так как она, очевидно, вызывала уважение и доверие почти всех фракций, и именно в ее руководстве лежала надежда на объединение. Я уговаривал членов моей группы присоединиться к новым группам, которые она создавала в Лондоне, и все ученики в Кумб принимали участие в занятиях гурджиевскими движениями, которым их обучали члены французской группы.
В течение 1950 года я часто ездил в Париж к мадам де Зальцман за помощью и советом. Во время одной из таких поездок я пережил событие, длившееся одно мгновение, но имевшее глубочайшее значение для всей моей жизни вплоть до сегодняшнего момента. Не могу назвать его точную дату, так я не записал его. С тех пор оно всегда со мной, и, хотя память о нем остается неизменной, с годами я вижу в нем все больше и больше смысла.
В одиночестве я ехал в Париж на Золотой Стреле. Я как раз закончил ланч через час или около того после Галаиса и пил кофе. Я поставил чашку на стол, как вдруг мое внимание сосредоточилось на моем дыхании, и между вдохом и выдохом я осознал Вечность. Впервые в жизни я переживал вневременное событие, хотя оно часто встречается в промежутке между сном и бодрствованием в виде долгих и очень ярких сновидений, на самом деле длящихся секунды. Но это не было похоже на сон – без видений, образов, событий, мыслей. Я находился в состоянии чистого познания, светящейся уверенности. В центре была истина о нетленности воли. Тело бренно, и все функции, зависящие от него, превращаются в сон и постепенно умирают. Даже моя алчность, мое существование и ощущение себя, которое его сопровождает, может длиться только какое-то время. Но моя воля не подвластна пространству и времени, и ничто не может ее уничтожить, Пока воля является заложником моих функций, то есть ощущений, мыслей, чувств и желаний, она разделяет их судьбу. И если они погибнут, она должна будет погибнуть вместе с ними. Но если моя воля освободится от всего этого, особенно от необходимости вообще «быть», она станет действительно нетленной, бессмертной и способной создавать любые приспособления, необходимые для существования и работы. Это свобода – свобода воли подчиняться Воле Бога, и я раз и навсегда раскрыл тайну вечной жизни. Все загадки христианства, и не только христианства, а всего того, что было открыто человеку, стали одной непреложной истиной. Все это и бесконечно большее открывалось мне век за веком, и мир за миром, но весь опыт занял не больше времени, чем удар сердца.
С этого момента я убедился, что осознание вечности для человека возможно и что оно устанавливает связь с реальностью более полную и прямую, чем наше обычное осознание событий в пространстве и времени. Невозможность передать такой опыт – наиболее убедительное доказательство того, что факты существуют не везде. Несомненно, правы Виттгенштейн и его школа в том, что в сфере факта все описывается ясно и недвусмысленно и что все, что можно сказать, можно сказать понятно. Фактическое содержание опыта, правда, ограниченное моей памятью, может быть описано сколь угодно подробно, но никакими словами не описать уверенности, что в одно мгновение я покинул пространство и время и вошел в состояние вечного осознания. Времени присуща последовательность событий, это свойство времени мы можем обнаружить в нашем повседневном чувственном опыте и замечаниях о временном развитии событий в математической физике. Наш язык так привязан ко времени, что мы не можем описать вневременную ситуацию, кроме как во временных терминах. Но в Вечности нет последовательности, нет до и после.
Думаю, есть только один способ выражения, доступный человеку, стремящемуся выразить Вечность, а именно изобразительное искусство. Художник не просто останавливает мгновение и запечатлевает его на холсте: он выражает глубины значения, выходящие за рамки факта. Например, существуют десятки автопортретов Рембранта. Было бы смешно, расставив их во временной последовательности, говорить о «развитии» Рембранта. Все картины и каждая в отдельности представляют собой душу Рембранта в ее внешнем выражении. Время значит мало, почти ничего в этом созерцательном осознании. Когда художник дает нам возможность последовательно проследить этапы его работы, как это сделал Пикассо в серии изображений Давида и Батшебы, становится очевидно, что время ушло, освободив момент вечности от всякой последовательности.
Поэтому мне представляется, что осознание Вечности редко встречается в человеческой жизни. Мое пробуждение в Золотой Стреле было для меня необычайным событием, в особенности безграничностью видения, чрезвычайной непродолжительностью, что еще больше подчеркивало его вневременность. С тех пор я несколько раз переживал подобные состояния, и они лишь усиливали ощущение, что Вечность всегда присутствует здесь и теперь.
В течение 1950 года меня раздирали противоречия. Я полностью отдал себя задаче подчинить свою личность группе, но семеро моих товарищей, взявших на себя такую же задачу, слишком по-разному понимали, что нужно для ее выполнения. Мы топтались на месте, но никто из нас не осмеливался в этом признаться. Вновь я не мог не восхититься мужественным оптимизмом мадам де Зальцман, которая увидела прогресс там, где мы не видели ничего,, и настояла на том, чтобы мы продолжали, воодушевив нас силой своего примера.
В то время деятельность научно-исследовательских лабораторий Powell Duffryn находилась в зените. Мы занимались исследованием угля со всего мира в самых различных целях. Необходимо было расширять наш штат и наши возможности. Опытные научные работники требовались повсеместно. Большие компании выискивали многообещающих молодых людей в университетах еще до того, как они зарекомендовали себя в деле. Я должен был собрать персонал, не имея того привлекательного престижа, которым обладали известные научные организации. В целом мне это удалось, но я выбирал людей, способных к самостоятельной работе, но испытывающих трудности в устройстве и общении, а не безупречных по характеру, но тугодумов. Человек, который может вписаться в любой коллектив и делать то, что требуется, – это сокровище. Я не боялся нажить неприятностей и всегда рисковал и брал на работу человека с оригинальными идеями, пусть даже неуживчивого. Наш председатель одобрял мою кадровую политику.
Меня заинтересовала психология научного открытия. Известно, что в некоторых областях, например, в математике, великие открытия совершаются такими, как Ньютон и Энштейн,, в возрасте около двадцати лет. Для химиков наилучший возраст – тридцать, и, похоже, каждая отрасль имеет свой наиболее плодотворный возраст. Нелегко предоставить молодому ученому достаточную сферу деятельности, избежав при этом несправедливого отношения к более старшим. Я пытался найти решение этой проблемы, которая стоит.перед любой научной лабораторией. В университетах, благодаря постоянному притоку выпускников, эта проблема заметна меньше.
Обычно для ее решения создаются небольшие команды под руководством хорошего лидера,, и им дается полная свобода действий в решении определенной задачи. Метод работает, но он ведет к большим потерям, так как молодым и зачастую более талантливым ученым приходится долго ждать того момента, когда они станут лидером команды, между тем время их творческого расцвета проходит. Я предоставлял отдельным работникам полную свободу, давая им возможность самим выбирать себе помощников. При этом, как правило, действительно выдающийся человек работал один, а остальные формировали небольшие группы.
Этот метод ведет к массивной генерации идей. Затем необходимо выбрать, какие из них подлежат дальнейшей разработке, а какие – временному оставлению. Это называется «убиение младенцев», и зачастую почти также болезненно. Тут управляющий директор должен жестко вести свою линию, иначе много энергии будет потрачено зря.
Все лето 1950 года я усердно работал и считал, что наша научно-исследовательская деятельность процветает и успешно продвигается вперед. В нашу команду входило один-два блестящих ученых, один из которых, по несчастливой случайности, был открыто признанным коммунистом. Я был настолько уверен в отсутствии у меня, равно как у кого бы то ни было из руководства, политических интересов или связей, что только смеялся, когда меня предупреждали: «Такой-то доведет тебя до беды». К осени исследовательские лаборатории в Баттерси начали вставать на ноги. Мне очень нравилась работа. В Кумб Спрингс было более или менее спокойно, мои постоянные поездки в Париж прекратились, и я мог посвятить все свое время и энергию лабораториям. Коммерческое производство деланиума все еще не ладилось. Мы допустили несколько ошибок, в основном, в определении рынков сбыта. Несмотря на это, я был уверен, что терпение и труд все перетрут, и мы сможем окупить вложенные деньги.
Я не учел изменений, происходящих в высшем руководстве компании. Не понимал, какой вред нанесли моему положению среди директоров слухи о том, что я принадлежу к некоему тайному обществу. Ни на минуту я не мог себе представить, что меня будут подозревать в причастности к коммунистам, но, как позднее выяснилось, о Гурджиеве поговаривали, как о русском шпионе и предполагали, что он может быть коммунистом. Так, не подозревая об этом, я оказался на тонком льду, тем более хрупком, что часть работы, выполняемой нами в лаборатории, была связана с атомной энергией, что тогда всеми связывалось с атомной бомбой.
Лед проломился неожиданно и с совсем уж ненужной драматичностью. Однажды я работал допоздна над отчетом. На следующее утро, придя на работу, я узнал, что лаборатории опечатаны и закрыты. На волне этого в вечерних газетах появились передовицы под заголовками: «Научная лаборатория, занимающаяся разработками атомной энергии, оказалась центром коммунистического шпионажа». Меня осаждали репортеры, пронюхавшие, что у дела есть и иная сторона. Очевидно, что им ничего не следовало сообщать, и мое имя даже не появилось в газетах.
Я немедленно подал в отставку с единственным требованием признать, что во всем не было ни тени коммунизма или шпионажа. Но слухи породили подозрения, а подозрения – новые слухи, пока наконец они не переросли в серьезное убеждение, что в лабораториях были обнаружены документы, свидетельствующие о преступлении.
Разумеется, все мои друзья и деловые партнеры знали о разыгравшейся Драме. Как это всегда бывает, большинство решило, что нет дыма без огня, и что-то действительно было не так. Я был достаточно мудр, чтобы ни одним словом не защищать себя, а спокойно ждать, пока страсти улягутся.
Рассказанная история может показаться безобидной, но для меня она оказалось очень болезненной. Мне исполнилось пятьдесят три года. Мне еще было что сказать в той области, где я работал почти двадцать лет. Я надеялся, что, уйдя в отставку, сохраню совещательную должность, которая позволит мне балансировать между духовными и мирскими интересами, что я считал необходимым для жителя современного мира. Все эти ожидания рухнули в одночасье. Лично для меня несчастье не могло выбрать худшее время. Менее чем за три недели до этого моя жена чуть не умерла от тромбоза коронарных сосудов. Она отважно боролась за поддержание жизни в Кумб Спрингс на должном уровне и надорвалась. Как-то раз, утром, она обнаружила, что нанятая для этих целей женщина, также до предела загруженная работой, отказалась стирать. Жена отправилась в прачечную и сама справилась с недельной стиркой, не позволив никому помочь ей. Придя вечером домой, я нашел ее падающей от усталости, но победившей. Ночью с сердечным приступом она была доставлена в Вестминстерский госпиталь. Несколько дней ее состояние оставалось критическим, она была полупарализована. Мучительно было смотреть на ее искаженное лицо, многим довелось пережить это. Мне разрешили дважды в день навещать ее. Когда в Powell Duffiyn взорвалась бомба, я ощутил странное безразличие, которое всегда охватывало меня в критические моменты моей жизни. Одна часть меня остро страдала, но другая взирала на все происходящее с необъяснимым равнодушием.
Мне было крайне неприятно прийти в мой кабинет с секретарем и собирать принадлежащие мне вещи под подозрительным взглядом незнакомого клерка. Больно было слышать, что всем моим ближайшим друзьям в лаборатории было сделано предупреждение. Многообещающие исследования были задушены в самом зародыше, и мне было отказано в удовлетворении от того, что мой метод управления исследовательской лабораторией позволяет достичь высокой доли оригинальных разработок. Я никогда не винил никого, кроме себя, но и это не очень приятно. Директора компании, видимо, чувствуя себя в несколько дурацком положении из-за своих действий, очень мило обращались со мной и предложили мне солидную компенсацию за мой уход. Я почувствовал, что все идет как надо и теперь я могу посвятить всего себя работе в Кумб Спрингс и собственным исследованиям, но получил я эту возможность самым болезненным из всех вероятных способов.
Во всем этом было одно немедленное преимущество: я мог целый день проводить с женой. Ее состояние внушало докторам серьезные опасения. Вскоре она могла говорить, но левосторонний паралич оставался, и она становилась все слабее и слабее. Она умоляла забрать ее домой, так как не могла выносить одинокие ночи. Доктора говорили, что ее нельзя перевозить ни под каким видом и что ей нужен больничный уход.
В конце концов она сама решила этот вопрос, выбравшись из кровати и заявив, что уходит домой. Известный кардиохирург, заинтересовавшийся ее случаем, сказал мне, что ее сердце истощено и дальнейшее лечение бесполезно. Ей было за семьдесят пять, а в этом возрасте уже не надеются на чудо. Я мог отвести ее домой, если захочу, но он должен предупредить меня, что я забираю ее домой умирать. Он сомневался даже, перенесет ли она поездку.
Тем временем, от мадам де Зальцман я узнал о русском враче, профессоре Залманове, который творил чудеса для членов французской группы Гурджиева, и сказал, что он может помочь моей жене через Бернарда Кортни-Майерса, если ей дома обеспечат хороший уход.
На следующий день карета скорой помощи осторожно перевезла ее в Кумб. Несколько раз в день Залманов давал указания, касающиеся ее лечения, по телефону из Парижа. Они ужасали своей явной жестокостью по отношению к умирающей женщине. Нужно было делать клизмы, инъекции и, в довершении всего ставить пиявки. То, как мы искали в Лондоне пиявки, можно назвать трагикомедией, но, когда мы их наконец нашли, привезли и поставили, она испытала немедленное облегчение. Ее сознание блуждало, но, когда они присосались к ее коже, она воскликнула: «Ага! Попались, которые кусались!» Это название «попались, которые кусались» прижилось среди нас. Трудно сказать, что ее спасло: собственное мужество, или лечение Залманова, или любящий уход, которым мы ее окружили. Возможно, правильнее всего было бы сказать, что час ее смерти еще не пробил. За несколько недель произошло поразительное выздоровление.
Весной мы на машине отправились во Францию. Я вспоминаю эту поездку как счастливейшее время в моей жизни. Мы были с ней вдвоем. Добрались до Чамоникса, а затем поехали по дороге в Высоких Альпах, полной достопримечательностей. Потом направились к югу от Канн, провели неделю с Дороти Карузо и Маргарет Андерсон на прекрасно обставленной вилле и вернулись через Прованс. Болезнь освободила ее от несколько мучительного ощущения спешки, которое все время заставляло ее предпринимать все новые и новые усилия и которое мешало друзьям спокойно с ней общаться. Мы были убеждены, что Гурджиев предвидел ее болезнь и пытался показать ей способ ее предотвращения. Возможно, она не поняла этого. В последнем разговоре с ней он предупредил: «Вы не должны больше работать. Пусть работают другие. Вы должны теперь готовиться к смерти, возможно, это займет много лет, но Вы должны готовиться». Она не хотела понимать его буквально. Кто может упрекнуть ее за это? Я и сам поступал не лучше.
Тогда я работал над «Драматической Вселенной». Как обычно, я поставил перед собой невыполнимую задачу. Я хотел привести в соответствие все, что я пережил и узнал о внутренней духовной жизни человека, с тем, что знает наука и история о мире ума и ощущений. По мере исполнения задача росла. Я часами читал, обдумывал прочитанное, писал, переписывал. Написанное казалось хорошим только какое-то время. Тремя месяцами позже я видел в нем немыслимый вздор.
В конце 1951 года с женой случился новый приступ. На этот раз, хотя мы были вооружены лечением Залманова, она чуть не умерла. Как-то ночью я сидел рядом с ней. У нее развилось предсмертное дыхание Чейн-Стокса, чередование тяжелых вздохов и полной остановки дыхания. Вновь и вновь я Думал, что она умерла. Я вспоминал агонию в госпитале Св. Марии четырнадцать лет назад. Теперь я был уверен, что, какой бы глубокой ни была кома, она знает, что я рядом и слышит мои слова.
Сутки она оставалась между жизнью и смертью, а затем вернулась. На этот раз она сильно изменилась. Ее мозг был поврежден тем, что доктор счел церебральным кровоизлиянием, на много недель она впала в состояние деменции. Но снова произошло чудесное выздоровление, и к весне она полностью поправилась, хотя и была очень слаба. Она не могла вспомнить, что переживала, будучи в коме, за исключением ощущения счастья и того, что все будет хорошо.
В 1952 году жизнь в Кумб Спрингс оживилась. Я читал публичные лекции, и в Институт пришло много студентов. Мы сохраняли тесные и дружеские отношения с группами, руководимыми мадам де Зальцман, и вместе с ними изучали гурджиевские ритмические упражнения и храмовые танцы. В театре «Фортуна» 17 мая было дано публичное представление. Лично я многому научился в процессе подготовки этого выступления. Я работал над упражнениями регулярно с тех пор, как впервые отправился в Париж в 1948 году, и весьма в них преуспел, хотя мне и мешали мои размеры. Наконец, меня выбрали для участия в одном из ритуальных танцев, известного как «Большая Молитва». Первый раз я увидел его в Константинополе сорок лет назад. Это одно из лучших творений Гурджиева с нарастающей глубокой символической значимостью, которую осознаешь, работая над ним месяц за месяцем. Одеваются особые костюмы, аккомпанементом служит глубоко религиозная музыка, и в целом эффект получается необычайный и для участников, и для зрителей. Во время последних репетиций я чувствовал себя все хуже и хуже и начал допускать ошибки, так что меня совершенно справедливо отстранили от участия в выступлении. Я принимал участие в последней репетиции, хорошо понимая, что больше никогда, до конца моих дней, мне не доведется пережить этот опыт. Это чувство глубоко проникло в мое сознание. Я проживал каждый момент так, словно он был последним.
После репетиции ко мне подошли несколько друзей и посочувствовали, что я не буду участвовать в выступлении. Я возразил: «Я самый удачливый человек на земле, потому что я сделал это последний раз, полностью осознавая, что этот раз последний». Я знал, что проник в одну из тайн жизни. Я часто слышал и сам не раз говорил, что надо все делать так, как будто это в последний раз, но я никогда с столь ясным осознанием не переживал это на опыте. С тех пор память об этом дне часто помогала мне.
Тем временем я серьезно заболевал. Я стал очень слаб и испытывал трудности с дыханием. Рентгенография грудной клетки показала активизацию моего туберкулеза. По настоянию жены я отправился в Париж и встретился с Залмановым. Он поставил мне другой диагноз, но сказал, что моя жизнь в опасности, если я не заставлю себя хорошенько отдохнуть. Он не позволил мне даже вернуться в Англию, а велел отправиться в Фонтенбло и месяц лежать в лесу на спине. Приехала моя дочь Энн и ухаживала за мной.
Постепенно силы возвращались ко мне, но когда я приехал в Англию, то пренебрег советом Залманова и слишком рано начал работать. Я обрезал в саду яблоню, упал с лестницы и сильно повредил руку. Шок вызвал реакцию, которая проявилась в том, что все мое тело покрылось язвами. Я весь горел и с трудом мог лежать на простыне, посыпанной мукой по совету Залманова. Помня Гурджиева, я отказался от пенициллина и других антибиотиков. Это явно была не инфекция и не обычная болезнь. Она внезапно накинулась на меня столь невыносимой болью, что я был уверен, что умру. Так продолжалось три дня.
Я лежал так неподвижно, как только мог, поскольку это был единственный способ уменьшить боль. Без всякого предупреждения я почувствовал, что покидаю свое тело. Мне больше не было больно, я вообще ничего не чувствовал. Я вышел из своего тела очень спокойно и точно помню, что узнал нечто, что может быть выражено в следующих словах: «Вот смерть, никогда не думал, что это будет так хорошо». Я осознавал, что мое тело лежит на постели и не дышит. Я поискал, дышу ли я – я дышал, но это был не физический вдох и выдох. Я не мог думать, но только осознавал свой опыт. Это трудно описать: словно бы кто-то представлял мне мой опыт: сам я не видел, не слышал, не думал и не дышал. Я знал, что нахожусь в некоем теле, но это было не то тело, которое я покинул.
Не знаю, как долго продолжалось это состояние, как вдруг я услышал, что жена зовет меня. Я ощутил сильный удар боли и вновь оказался в своем теле. Ничего не изменилось, но через несколько часов язвы начали подсыхать, и за неделю я был здоров. Я так и не понял, что случилось со мной тогда, но приписываю опыт пребывания «вне тела» тому, что Гурджиев называл Кесджианским телом человека. Я понял, что означает необходимость построить другое тело для «подлинного неизменного Я”. Вне тела у меня не было «Я», только осознание, блаженное и умиротворенное, но бездеятельное.
Позже, в этом же году, я поехал в Америку читать лекции о системе Гурджиева по приглашению мадам Успенской и мадам де Зальцман. Четыре лекции я проводил в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Я был рад оказаться полезным, но не чувствовал себя причастным. Я от всего сердца хотел объединиться с теми, кто продолжал дело Гурджиева и распространял его идеи. Я был, как всегда, уверен, что Гурджиев принес в мир наиболее мощный инструмент самосовершенствования из когда-либо известных. Он был Учителем в самом лучшем смысле этого слова.
С тех пор, как он нас покинул, все изменилось. Однако было бы неверно утверждать, что Гурджиев перестал для нас существовать. Мы ощущали его присутствие. Каждый год в день его смерти в русских церквях во всем мире служили заупокойные службы. По крайней мере, в этот день возобновлялась связь между всеми теми, кто когда-либо учился у него.
Все это много значило для меня, но у меня из головы не выходили слова Гурджиева, сказанные в очень серьезный момент незадолго до смерти: «Я Уйду, но за мной придет другой. Вы не останетесь одни». Я помнил также, с какой настойчивостью говорил Успенский о том, что от Источника, из которого черпал свои откровения Гурджиев, придет некто, более великий, Гурджиев определил свою роль в той удивительной главе «Я Есть», которую он столько раз заставлял меня читать вслух. В 1924 году он понял, что его идеи не смогут принести практическую пользу человечеству в течение его жизни, поэтому он поставил перед собой задачу убедиться, что они войдут в жизнь человека в теории после его смерти. Так как он всегда подчеркивал, что теория ничего не значит, если только она не ведет к практике, следовательно, его работа должна быть подготовкой к следующей стадии Проявления Провидения, которое ведет человечество от Эпохи к Эпохе.
Если в нашу задачу входила подготовка, а не исполнение, даже тогда наша разделенность имела смысл. Мы должны сохранить то, что получили, и быть готовы встретить все, что бы ни пришло.
Далеко не все разделяли такое видение ситуации, а среди его сторонников оставались разногласия по поводу лучших способов выполнения задачи. Как и после смерти Успенского, возникали типичные фракции. Одни настаивали на скрупулезном сохранении без изменений всего того, что Гурджиев делал и говорил. Другие были уверены, что он дал им персональные указания работать независимо от остальных. Третьи могли пожертвовать всем ради объединения. Многие, естественно, с легкостью перекладывали ответственность на чужие плечи и были счастливы, если могли получить помощь и руководство от более опытных, чем они сами. Я считал, что важнее всего объединение, и был готов стать частью любого целого, но я также знал, что единство не означат единообразия. Мне представлялось, что моя роль на данном этапе заключается в усилении Кумб Спрингс. Я помнил слова Гурджиева о необходимости места, где люди могли бы вместе жить и работать, таким образом набираясь опыта, который пригодится им в самостоятельной работе с другими.
Я поставил перед собой сложную задачу подчинения себя целому и в то же время сохранения собственной целостности. Я размышлял, найду ли я в себе или в группе, в которой тогда работал, ресурсы реальной помощи тем трем сотням человек, которые тогда посещали группы. Я мог бы держать их на расстоянии. За два или три год большинство много почерпнуло из обучения, упражнений и, в особенности, из практической работы, которой мы занимались в Кумб Спрингс. Но я видел, что те, кто работают так много лет, начинают двигаться с постоянной скоростью. Не на месте и не назад – ведь Гурджиев снабдил нас столь обширным количеством идей и методов, что мы могли постоянно разрабатывать новые упражнения, создавать новые условия и поддерживать жизнь в учении. Скрупулезно следовать букве учения претило моей натуре. Я был готов экспериментировать с новыми идеями и методами, если, конечно, они соответствовали основным принципам гурджиевской работы.
Как я понимал, к этим принципам относилось представление о человеческом организме и психических способностях к ощущению, чувствованию, мышлению и желаниям как о всего лишь очень сложно устроенной машине, неспособной к независимой деятельности. Подлинный человек, «постоянное неизменное Я» должно быть хозяином и управителем этой машины. Но почти у всех людей этот хозяин отсутствует или спит. Таким о разом, внешне напоминающие людей, они на самом деле автоматы, отвечающие на стимулы, приходящие от их органов чувств. Иллюзия обладания «Я» исходит от природы сознания, придающего вкус реальности всему, до чего бы оно ни дотрагивалось. То, что люди называют «Я» не более чем текущий поток сознания. В этом Гурджиев полностью соглашался с философами-скептиками, в особенности с Дэвидом Хьюмом. Однако, человек мог приобрести «постоянное неизменное Я», разумеется, за определенную плату. Никто не мог заплатить за другого. Каждый должен был сделать свою работу сам, но только очень немногие могли сделать ее в одиночку. Поэтому группы и учителя необходимы для создания верных условий, а не для того, чтобы давать помощь, которую несет группа.
Создание верных условий зависит от силы и мудрости того, кто за это берется. Я все больше убеждался в ограниченности моих сил и тем более мудрости. Я не смел взять на себя ответственность за внутренний мир другого человека, как это делал Гурджиев. Помню, как однажды он особенно мерзко вел себя с одной почтенной дамой, сидящей за его столом, а потом повернулся ко мне и спросил: «Вас шокирует такое бесстыдство?» Я ответил: «Нет. Вы знаете, что делаете». Он ответил «Да. Это наука. Я владею наукой о человеке и человеческой психике. Поэтому я могу делать то, чего не могут другие. Если другие станут поступать, как я, они могут убить. Даже я иногда допускаю ошибки: но я умею их исправлять».
Семинар 1953 года был рискованным мероприятием. Помимо моей воли сложились более напряженные условия, чем я мог предвидеть. Несколько человек прошло через жесточайший эмоциональный кризис. На какой-то момент ситуация стала угрожающей, но потом чудом все стало на свои места, и многие из присутствовавших уезжали уверенные, что для работы необходимы еще более суровые условия. Другие были напуганы и не согласились бы пережить такое еще раз.
За те две недели, что мы провели вместе, я получил четкое указание во время одной из медитаций. В грудной клетке я услышал голос, который несколько раз произнес: «Иди на Восток». Я рассказал жене и ближайшим друзьям об этом переживании, и они согласились, что я должен следовать полученному указанию.
Глава 23
Юго-Западная Азия
Восток велик. Он простирается от Средиземного моря до Тихого океана и насчитывает в два раза больше жителей, чем во всем остальном вместе взятом мире. Куда мне направиться? Я решил, что бесполезно ехать в страну, языка которой я не знаю. Единственным восточным языком, которым я владел действительно хорошо, был турецкий. Я знал не только оттоманский и современный турецкий, но и несколько центральноазиатских диалектов. В широком смысле турецкий – это lingua franca, знание которого позволяет путешествовать от Балкан до Китайского Туркестана, от Волги до Нила – везде найдется кто-нибудь, кто поймет вас.
Хотя со времен войны и произошли огромные перемены, те, к кому я ехал, принадлежали к старому поколению. В туркоязычных странах я буду чувствовать себя как дома. Я решил провести несколько месяцев в Турции, Сирии, Ираке и Иордании, а затем определить, куда отправиться дальше. Ничто не задерживало меня в Англии. Хотя моя жена была почти совсем привязана к своей комнате, она оставалась на попечении любящих людей и полагала мою поездку необходимой. Я также хотел избежать надвигающегося на меня положения незаменимого лидера. От такой опасности я избавлялся любой ценой, даже если нужно было бросить всех и все.
Один ключ у меня был. Тридцать три года назад в Константинополе я познакомился с Али Хайдаром, последним шерифом, или стражем священного города Мекки, прямым потомком пророка Мохаммеда. У него было пятеро сыновей примерно моего возраста, один из которых, князь Абдул Меджд, был моим хорошим другом. Благочестие и бескорыстная доброта этих людей древней крови поразили меня, и я очень сожалел о, с моей точки зрения, гибельном влиянии Лоренса из Аравии, который поддерживал молодую ветвь рода и препятствовал возвращению законного шерифа по окончании Первой мировой войны. История наших отношений с арабами могла бы быть гораздо более благоприятной, поддержи мы шерифа Али Хайдара, который знал, как обращаться с Вахабистами. Все это, однако, теперь дело прошлое. Али Хайдар умер, а его сын теперь служил своему двоюродному брату, королю Иордании.
Некоторое время он был иорданским министром в Лондоне, но в 1953 году переехал в Париж.
Я отправился навестить его и рассказал о своем стремлении отправиться в Юго-Западную Азию и о причинах этого. Будучи правоверным мусульманином, он сказал: «Несомненно, на то есть Воля Бога, так как это пришло к тебе без твоих просьб. Как ты знаешь, я суфий и дервиш в сердце. Во время войны, когда удача отвернулась от меня, в Дамаске я встретил замечательного шейха. Это очень благочестивый и мудрый человек. Несомненно он сделает все для моего друга. Его имя Эмин Чикхоу». Князь продолжал, рассказывая мне о дервишеском ордене Накшбенди, процветавшем все это время, с шейхами и группами мюридов, разбросанными по всему мусульманскому миру от Марокко до Индонезии. Он знал, что я последователь Гурджиева, и по моему приглашению присутствовал год назад на нашем выступлении в театре «Фортуна». Он сказал, что орден Накшбенди должен заинтересовать меня, потому что его члены не прячутся в текках и не используют открытые упражнения, как Руфайи и Мевлеви, но исполняют все свои мирские обязанности, не переставая почитать Бога в своих сердцах.
Доброта князя очень тронула меня, но я не мог себе представить, что так запросто можно встретиться с подлинным источником эзотерической традиции Ислама. Я решил начать с Турции и, следую своему давнему желанию, заехать в Конию, родину величайшего из исламских писателей-мистиков, Джалаледдина Руми, основателя мевлевского ордена, в котором в начале двадцатых годов у меня было много друзей.
Я не планировал свой маршрут, но поставил перед собой три задачи. Во-первых, я взял с собой кинокамеру, чтобы мои близкие могли разделить со мной некоторые впечатления от путешествия. Во-вторых, я решил вести подробный дневник. И, в-третьих, я решил изучить постройки, старые и новые, которые использовались христианами, мусульманами и более мелкими сектами Юго-Западной Азии. Я хотел обнаружить, если это возможно, способ, благодаря которому в закрытых помещениях концентрировалась психическая энергия. В результате теоретических исследований я пришел к выводу, что размеры и форма здания и распределение массы воздействуют на психическое состояние присутствующих.
Я отправился в путь 15 сентября 1953 года, проехал через Рим, где сделал двухдневную остановку. В Истамбуле я встретился с князем Мухиддином Хаидари, с которым познакомился, когда он еще был ребенком, во дворце его отца. Слушая пение его жены, возможно, лучшей из ныне живущих исполнительниц старой турецкой музыки, я осознал суть той связи, которая объединяет меня с азиатским народами. Я чувствовал себя как дома и в то же время был очень смущен, подобно юноше, возвратившемуся домой и не знающему, что сказать своей семье.
Каждый день я пешком бродил по Истамбулу. Рядом со стенами старого рынка под сенью мечети Султана Байязида я нашел локанту кебабжи Киамила, в которой я едал кебаб в апреле 1919, работая в Турецком Военном Министерстве. Старый Киамил и его сын умерли, но двое его внуков приветствовали меня. Я вышел из старого города через Адрианопольские ворота и нашел монастырь Мевлевских дервишей, частым гостем которого я был в 1920. Хотя он был заброшен тридцать пять лет назад вместе с изгнанием дервишей, в нем ничего не изменилось. Я нашел охранника, и он открыл мне Сема Хан, и на меня нахлынули прошлые воспоминания. Я удивлялся своей слепоте. Стоя на пыльном полу и глядя на осыпающиеся деревянные стены, я осознал, что значил для турков дервишеский образ жизни в течение более семисот лет. Дервиши служили оплотом практическому мистицизму, который спасал религиозную жизнь Турции от формализации. Я задался вопросом, разрушили ли тридцать лет правления Кемаля Ататюрка глубинные религиозные чувства турков.
Перед тем, как покинуть текку, я измерил Сема Хан и сделал расчеты. Позже я проделал тоже самое в Мевлевском Хане в Пера, теперь полицейском участке, и обнаружил, что основные размеры совпадают. В сумерках я отправился к великой мечети Сулеймана, шедевру Синана Мимара из Каусери, одного из величайших мировых архитекторов и математиков, имя которого почти неизвестно на Западе. За эти годы мое зрение стало более острым, и я стоял перед внешней стеной, восхищенный тонкими чудесными очертаниями ее куполов и башенок, спускающихся каскадами вниз в гармонии, объединяющей небо и землю. Насколько безжизненными выглядят на фоне этого изумительного здания наш огромный собор Св. Павла на Ладгейт-Хилл или бессмысленная церковь Св. Петра в Риме. Этим высшим произведением искусства Синан Мимар исполнил обещание, данное им Величайшему Сулейману, превзойти византийских архитекторов Св. Софии. Я вошел внутрь и услышал голос муэдзина, нараспев читающего стихи из Корана. Вновь чистота звука вызвала слезы на моих глазах, но на сей раз я осознавал присутствие звука внутри звука и понимал, что архитектор построил духовный храм внутри земного.
Двадцать второго сентября я отправился в Конию. Я решил путешествовать как турок и тратить как можно меньше денег. Найти отель оказалось нелегко, но Беледий, офицер городской управы, помог мне. Отель явно не был рассчитан на иностранцев. В старые времена, когда не было отелей, при караван-сараях располагались постоялые дворы, называемые конаками, или «местами для спешившихся всадников». Турки, по натуре своей остающиеся кочевниками, спали вместе в больших комнатах, как в палатках. Никто не требовал отдельной спальни. Я привередливо потребовал для себя отдельную комнату и заплатил шесть шиллингов за помещение с тремя кроватями, но без какой-нибудь другой мебели. Турки, как и все правоверные мусульмане, чрезвычайно чистоплотны, и пол тщательно вымывался каждый день. Но эта чистота, однако, никак не затрагивала живность, в основном блох и клопов, которые населяли матрасы и пледы. Турки считают нас грязнулями, ведь мы не моем несколько раз в день свои половые органы. Они привередливы, но иначе, чем мы. Мы же, со своей стороны, считаем грязнулями их, так как их санитарные нормы весьма отличаются от наших принципов.
К тому времени, как я устроился в гостинице, с минаретов Конии раздался призыв к полуденной молитве, и я отправился в Селимскую мечеть. Город никогда не терял своей глубокой религиозности еще со времен сельджукских султанов. В полдень закрываются все магазины, и владельцы отправляются в мечеть молиться. Я записал: «Слыша повторяющиеся возгласы «Бог Всемогущ!», я осознал искренность этого порыва отдать себя Воле Бога. Мне открылась необходимость постоянно выполнять этот внутренний акт подчинения и отказа от собственной воли, и я понял, что могу этому здесь научиться».
В Конии я каждый день ходил в большую Мевлевскую текку, дом поэта Джалаледдина Руми, основателя Ордена Мевлеви. Сема Хан был построен в 12 веке под руководством его сына, султана Веледа, сельджукскими королями Конии. Она служит прототипом 365 похожим зданиям, разбросанным по Юго-Западной Азии. Изучая ее, я пришел к выводу, что размеры и пропорции здания проистекают из утерянного ныне искусства концентрации психической энергии, которая влияла на внутреннее состояние приходивших сюда молиться.
Пока я сидел и делал пометки в блокноте, ко мне подошел хранитель могилы Мевлана и указал на старого турка, который хотел поговорить со мной. Я заметил его еще днем раньше, как и то, что он наблюдал за мной. Со времен Абдула Хамида страну наводнили полицейские в штатском, а уничтожить шпионов не может ни одна революции. Я решил, что за мной наблюдают как за иностранцем странного поведения. Я был рад, что ошибся. Он оказался дервишем и правоверным мусульманином. Мы отправились в чайхану и выпили чай. После нескольких осторожных замечаний он сказал: «Страна не может существовать без дервишей. Один настоящий дервиш может искупить грехи тысячи людей». Я спросил, в чем разница между дервишем и истинно верующим, но не дервишем. Он ответил: «Последний живет в одном мире, а дервиш – в двух. Есть видимые молящиеся, которых вы видите в мечетях, но есть также и невидимые молящиеся в сердцах своих». Дервиш относится и к тем, и к другим». Я сказал, что читал о молитве сердца, но чтобы практиковать ее, нужен Муршид, или тот, кто показывает путь. Это было то, чего он явно ждал, и, доверчиво глядя на меня, заметил: «Конечно, ничего нельзя сделать без муршида, но учителя есть везде». Мы немного обсудили наличие учителей в Турции, и он, с некоторым колебанием, сказал: «В Адане есть один Великий Учитель, но я его не знаю». Он замолчал, и я, в свою очередь, признался, что собирался в Адану и что одной из причин моей поездки было проверить, следуют ли еще в Турции и Сирии древним путям суфизма. Он сказал, что знает нескольких учеников Великого Учителя и попытается связать меня с ними.
Позднее, в тот же день, он сказал мне, что человек, которого он имел в виду, на время уехал из Конии, но вернется через несколько дней. Больше я его не видел, хотя расспрашивал о нем в хаммаме и чайхане.
Все, что я пережил в Конии, уместится разве что в очень длинной главе. Казалось, я сбросил одну кожу и влез в другую. Я больше чувствовал себя турком и мусульманином, чем англичанином и христианином. Однажды, когда я отдыхал в хаммаме, я вдруг увидел Сема Хан в Кумб Спрингс, «выстроенный нашими руками». Я написал, что «это может занять два или три года, но само строительство станет великим делом. Я не должен бояться идти вперед, и шаг за шагом нам будет открываться продолжение».
Из Конии на поезде я медленно добрался до Аданы. Проезжая через дикие Тауруские горы, я увидел золотого орла. Силицийское ущелье, проходящее через горы близнецы, разделенные всего несколькими сотнями футов, ведет от ледяных склонов к равнине с цветущим хлопком и зреющими бананами.
В сентябре Адана утопает в солнце. После Конии я попал в процветающий город со 130000 жителями, центр турецкой текстильной промышленности. Следуя своему плану, я остановился в отеле «Багдад», который даже не отмечен в путеводителях, но несколькими классами выше моего конака в Конии. В полдень я направился в ближайшую мечеть. Стоя сзади, я наблюдал, как опоздавший отправлял ритуал и присоединился к молитве. Меня привлекло его явное благочестие. Когда все расходились, этот молодой человек подошел ко мне и пригласил на чай. Когда мы уселись, он сказал: «Я понял, что вы иностранец и, может быть, даже не говорите по-турецки, но почувствовал, что должен поговорить с вами, потому что вы так искренне следовали за нашей молитвой. Должен сказать, что я молился за вас и просил Бога открыть ваше сердце мусульманской вере».
Без обычных околичностей мы заговорили о вере. Он сказал: «Я простой человек и не могу объяснить вам наш путь, но если вы пойдете со мной, я познакомлю вас с тем, кто может. « В этот момент он поднял глаза и, увидев старого турка с бородой и в грубой деревенской одежде, окликнул его и предложил присоединиться к нам. Он представил его как Хассан-эффенди. Старик был выше среднего роста, одет в неопределенное ветхое одеяние. У него были тонкие узловатые руки, прямая осанка и величественный взгляд из-под нависших бровей. Его седая борода была длинной, но тщательно расчесанной. Он производил впечатление совершенно спокойного человека, и каждый его жест и слово были наполнены умиротворением. Выяснилось, что Хассан-эффенди – ученик того самого Великого Учителя, о котором я слышал в Конии. Он пригласил меня провести следующий день в саду, недалеко от города. Мы провели вместе три дня, за которые я узнал от него столько, что хватило бы на несколько томов. Это был настоящий святой, хотя и очень простой человек в поношенной одежде, зарабатывающий на жизнь торговлей на рынке.
Через три дня я отправился в Дамаск, где задержался на несколько недель. Я выбрал гостиницу, в которой жили только турки и сирийцы. Полвека назад это был лучший отель в Дамаске, но теперь он затерялся в неудобной и старой части города. Дамаск восхитил меня сверх всякой меры. Встав пораньше, я наблюдал за работой ремесленников: ткачей, слесарей, плотников, корзинщиков, кожевников. Образ их жизни казался мне совершенным настолько, насколько это вообще возможно. Отцы учат сыновей, вся семья работает, поет, смеется и живет вместе. Но образованные сирийцы стыдились старых кварталов. Студенты не давали мне снимать или даже бродить по задворкам. Дамаск был разделен на сложно организованную современную часть, раболепно имитирующую английский или французский образ жизни, и простые старые кварталы, верные себе и никому не подражавшие. Идя по улице даже с закрытыми глазами, нельзя было не заметить разницы между угрюмыми, подозрительными, несчастными на вид обитателями новых кварталов и радостными, но серьезными, естественными и открытыми жителями старого города. Дни шли, и я все больше и больше влюблялся в Дамаск.
Вскоре после приезда я занялся поисками Эмина Чикхоу. Я меня не было адреса, я знал только, что он живет в Мухагиринском квартале, там, где разрешалось жить мусульманам-эмигрантам из стран, оставленных Турцией на Кавказе и Балканах. Оттоманское правительство в XIX и начале XX века поселило там тысячи беженцев, мало заботясь об их благосостоянии. Мухагирин простирается на две или три мили вверх по склонам холмов в северной части города. После трех дней поисков и приключений я нашел Эмина, и с того дня каждый день проводил с ним и его учениками. Эмим Чикхоу – шейх, или вождь неортодоксальной ветви великого дервишского Ордена Накшбенди. По национальности он принадлежал не к арабам, а к курдам и служил офицером в турецкой армии, поэтому в совершенстве знал турецкий, но как и я, много лет не говорил на нем. Несмотря на это, мы без труда понимали друг друга. Только в Дамаске в те дни у него было около двухсот учеников, в основном молодых людей, а остальные рассеялись по всей юго-восточной Азии. Он подробно рассказал мне историю своей необычной жизни, подчеркивая, что его вела и направляла Священная Мудрость. У него я научился теории и практике духовных упражнений дервишей Накшбенди. Я не сомневался, что при должной практике эти упражнения очищают природу и пробуждают внутреннее осознание ученика. Я согласился выполнять одно упражнение по полчаса каждый день, но оно не принесло тех немедленных результатов, на которые он явно рассчитывал.
Центральной темой учения Эмина Чикхоу в наших с ним беседах было Новое Освобождение, которое он связывал со Вторым Пришествием Христа. Часами он показывал мне пророчества, сохранившиеся в высказывании Мохаммеда и мусульманских святых, указывавших на то, что конец эпохи наступит, когда человек покорит энергии природы. Я сообщил ему, что, в свою очередь, убежден в том, что человечество вступает в Новую Эпоху своей истории, но не воспринимаю буквально пророчество о Втором Пришествии, Армаггедоне и Тысячелетии Справедливости. Хотя я и не принимал его буквальную эсхатологию, как человек он произвел на меня глубокое впечатление. Я говорил с ним так, как ни с кем -даже с Гурджиевым. Он попросил меня рассказать ему о моей жизни, и я припомнил множество эпизодов, описанных в этой книге, и других, слишком личных, чтобы о них писать. Его комментарии, всегда неожиданные, проливали истинный свет на то или иное событие. Много раз он обращал мое внимание на необычные совпадения в наших жизнях, и не раз звал учеников и переводил им на арабский то, о чем мы говорили. Говоря о некоторых событиях моей жизни, он отмечал: «Будь уверен, что такое происходит не с каждым. Есть люди, в которых Бог различает способность отвечать, и их Он обучает особо. Другие люди живут, как им вздумается, и не видят последствий, пока не станет слишком поздно. Но ты выбран Богом для служения великой цели, поэтому Он непосредственно занимается твоим обучением». Он утверждал, что в видении к нему приходил пророк Мохаммед и говорил, что конец века наступит еще при его жизни. Он уверял меня, что я стану свидетелем прихода Силы Господа и что моя особенная роль заключается в том, чтобы подготовить народы Запада к восприятию этой Силы. Я не мог заставить себя серьезно относиться к этим пророчествам, но все же Эмин Чикхоу произвел на меня глубокое впечатление. Он позволил мне присутсвовать на нескольких собраниях его учеников. Почитание, которое они ему оказывали, было в порядке вещей среди суфиев, так как они считают шейхов, или муршидов, наместниками Бога. Меня захватила превалирующая над всем гармония и преданность учеников идеалу служения ближним. Я наблюдал, как они заботятся о больных и беспомощных и как богатые делятся с нуждающимися в помощи. Позже я встречал учеников Эмин-бея в далеком Мосуле на Тигрисе и убедился, что ощущение братства преодолевает разделенность в пространстве и времени.
Несомненно, по плодам своей работы Эмин Чикхоу – выдающийся духовный руководитель и человек острого ума. Я не мог не согласиться с его верой в приближение Нового Освобождения, поэтому должен был серьезно принять его утверждение о моей особой роли.
Однажды я был на кладбище, где похоронен святой, отдавший свою правую руку за спасение ученика. Идя между надгробиями, я вдруг перенесся на тридцать три года назад, в тот вечер, когда на кладбище в Скутари мне открылось, что великий момент в моей жизни наступит не раньше, чем я достигну шестидесяти лет. Сейчас мне было пятьдесят пять, а Эмин Чикхоу уверял меня, что в течение четырех лет произойдет великое событие и что я должен буду сыграть в нем особую роль. Однако он настаивал, что событие произойдет в Дамаске, что подтвердит вековое поверье о том, что Иисус появится в Дамаске и махди, глашатай, объявит об этом с минарета великой мечети Умайяд.
В его речах пугающе перемешались вдохновение и здравый смысл, широкий современный взгляд и невосприимчивость к другим мнениям, архаичные убеждения, древние традиции, которым приписывалась значимость Священного Откровения, проницательность с наивностью, незамысловатое благочестие с экстравагантной оценкой его собственной миссии. Я не мог ни принять, ни отвергнуть то, что он говорил, но через три недели я убедился, что ему не хватало того глубинного внутреннего видения, которое отличало Гурджиева от всех известных мне учителей. Возможно, если бы у меня было больше времени и терпения, я многому бы научился от Эмина Чикхоу, но с помощью его одного я не нашел бы ту древнюю суфийскую традицию, которая, несомненно, хранилась в Юго-Западной и Центральной Азии. Надеюсь, что, приводя его высказывания обо мне, я не создал впечатления, что считаю себя «выбранным каналом». Напротив, я находился в замешательстве, так как остро осознавал не только свои моральные недостатки, но и духовную невосприимчивость.
В Дамаске я посетил Джебельскую Друзу. Мне повезло обнаружить там нескольких стариков, говорящих по-турецки, которые поведали мне, что в Китае есть миллионы друз, которые в назначенный час пересекут степи Центральной Азии и спустятся на запад и освободят своих единоверцев в Сирии и Египте. Народы Юго-Западной Азии отличаются широким распространением и вариабельностью эсхатологических верований. В Лебаноне я встретил группу христиан, ожидающих Второго Пришествия Христа в течение своей жизни. Только евреи, казалось, потеряли интерес к мессиям.
До отъезда из Сирии я на несколько дней заехал в Иерусалим. Основным ощущением был контраст между человеческими, сверхчеловеческими и субчеловеческими силами, действующими в Святом Городе. Это рвало на части мое сердце, так как я одновременно чувствовал святость и злобу, недоумевал, ужасался и удивлялся тому, как столь священное место может быть настолько осквернено теми, кто вроде бы здесь молится. Это было тем более мучительно, потому что я различал в самом себе те же противоборствующие силы и понимал, что не вправе никого судить.
Из Иерусалима я вернулся в Дамаск, а оттуда через несколько дней отправился в Багдад. За моей спиной в Лебаноне село солнце, всю ночь я провел в пути, а утром я вновь увидел солнце, восходящее над Ефратом. Позднее я летел по тому же маршруту самолетом и понял, насколько мы обедняем наш опыт в угоду скорости и удобству.
Я побывал в Вавилоне и Уре, Мосуле и Ниневии. В каждом месте я что-нибудь узнавал, особенно, если я был один и мог окунуться в жизнь местных жителей. Опишу только несколько случаев. В Мосуле Росс-Томас из Британского консульства отправился со мной к шейху Ади, главному почитаемому святому езидов. Эта секта всегда очень интересовала меня, поскольку их обычно называют «дьволопоклонниками», но они знамениты высокими моральными установками и стойкой верой. Пятнадцать сотен лет назад их преследовали и убивали тысячами, но до сих пор они твердо хранят преданность своим верованиям и практикам. Познакомившись с Кемалем, постоянным шейхом, или хранителем Святыни, я не сомневался, что рядом со мной духовно пробужденный человек. Он один из немногих езидских шейхов, которые, в связи с особой святостью их задачи, хранят чистоту и Целомудрие. С большим трудом и с помощью курдского переводчика я мог задать и получить ответы на интересующие меня вопросы.
Я понял, что религия езидов по сути своей является подлинным митраизмом, который в таком виде сохранился в течение пятнадцати сотен .чет после падения Сассанианской Империи. Езидов неверно называют Дьяволопоклонниками, потому что они верят, что земную часть жизни человека Ьог отдал в распоряжение своего противника Аримана – Великого Ангела, как они его называют. У них есть две эмблемы: Черная Змея и Серебряный Павлин. Я увидел выдолбленную в скале змею рядом с третьим порталом их святилища. Священного Павлина видят только шейхи, и то после особого обряда очищения. Как я понял из объяснений шейха Кемаля, суровые моральные нормы являются защитой от Змеи, а ритуальное очищение и молитвы возносятся Павлину, символу небес. Беседуя с шейхом Кемалем, я вспомнил рассказы Гурджиева о езидах и увидел, что они живой нитью соединяют нас с давно минувшими днями. Я понял также, что приезжие, пытающиеся узнать их тайны, никогда не смогут проникнуть в них глубоко, так как самыми важными являются не их доктрины или практики, но внутренний опыт, позволяющий им поворачиваться лицом к преследователю и даже убийце.
Второй случай связан с моим первым посещением развалин Вавилона. Все, кого бы я ни встречал: и англичане, и иракцы, предупреждали меня, что я буду разочарован. «Смотреть там не на что, кроме непотребной статуи льва, совокупляющегося с женщиной». «Взгляните на Иштарские ворота и поворачивайте обратно, больше там ничего нет». Так звучали типичные комментарии моих друзей.
Я нанял машину, и водитель предложил объехать Вавилон, Кербелу и индийскую плотину на Ефрате. Мы начали до восхода солнца, чтобы избежать его палящих лучей в разгаре дня, когда в тени было 120 градусов по Фаренгейту. Сбывалась мечта всей моей жизни, но я был готов и к разочарованию. Вместо этого я был ошеломлен. День напролет я бродил между остатками германских раскопок, проводимых незадолго до моего рождения. Город ожил, я сознавал присутствие людей и их выдающиеся достижения в искусстве и науке, их религиозные верования и духовные поиски. Я увидел, сколь велик был Вавилон, и что его величие сохранилось, несмотря на уход людей и разрушение стен. Я осознал, почему Гурджиев в молодости провел так много времени в развалинах Вавилона и почему действие своих наиболее драматических произведений он поместил в Вавилоне в дни его величия. С того раза я еще бывал в Вавилоне и всегда ощущал присутствие жизненных сил, которые наполняют развалины города.
Во время поездки я придерживался своего решения не общаться с европейцами и тратить как можно меньше денег. Порой это было нелегко, но неделя за неделей я словно бы приобретал другую кожу и обновлялся. Каждый день я писал жене и отправлял ей дневники, которые они читала вслух жившим вместе с ней в Кумб. За сто дней я написал более тысячи страниц рукописи. Когда я их перечитываю, мои приключения кажутся мне более необычными и важными, чем в то время. Весь мой опыт оказался подготовкой к новой жизни, начавшейся тремя годами позже.
Самообновление достигло кульминации, когда я отправился из Мосула в Алеппо поездом по старой железной дороге. Далеко на востоке я мог разглядеть дымок, поднимающийся над нефтяными полями Киркука. Я припомнил бесед}’ с Уолтом Тиглом в отеле «Ритц» в Париже в 1924 году, когда он предложил мне два с половиной процента доходов от Мосульских нефтяных месторождений, сегодня производящих на полмиллиона фунтов нефти ежедневно. Черный вьющийся дымок напомнил мне черную змею – символ, охраняющий третьи ворота в святилище езидов у шейха Али. К северу на курдских высокогорьях был виден снег. К югу от Мекки до Красного моря простиралась пустыня. Местами дорога проходила через высушенную, пыльную сирийскую пустыню. Поезд медленно тащился по старой одноколейке, я сидел, задумавшись над тем, что я увидел и услышал. Я планировал, чем займусь в Алеппо и Анатолии.
В Тель Котчек, сирийскую пограничную заставу, мы прибыли через четыре часа. Несмотря на ноябрь, палило солнце. Укрыться было негде. Сирийский офицер отказал мне в транзитной визе, хотя выдал ее троим туркам, путешествующим поездом. Как объяснил мне кондуктор, нужно было просто дать ему двадцать сирийских фунтов. Неожиданно я уперся и отказался. Много раз я поступал таким образом. Двадцать сирийских фунтов – в четыре раза больше стоимости визы – не были чрезмерной суммой для взятки. В конце концов, он получал мизерное жалование, которое ему постоянно недоплачивали. Я повторял это себе, но оставался упертым, как мул, которого заставляют делать что-то неприятное.
В результате поезд ушел без меня. Мне предоставилось выбирать между ожиданием следующего пассажирского поезда на восток или немедленной отправкой попутным поездом в вагоне с домашней скотиной и пятью иракскими солдатами. Я выбрал последнее и совершил интереснейшее путешествие. На несколько часов мы задержались в Тель-ель-Хьюгнане, и я, вскарабкавшись на небольшой холм, ухитрился увидеть заход солнца. В мгновение ока чистое небо заполнилось облаками, пылающими в солнечных лучах. Вдалеке виднелись горы Курдистана, бледно-голубые, словно состоящие из чистейшей воды.
Один, в полнейшем спокойствии, я наслаждался безграничным счастьем присутствия собственного внутреннего осознания, стойкого и неколебимого даже проявлениями моей собственной тупости. Наконец на пустыню опустилась холодная ночь, и машинист крикнул мне, что пора возвращаться.
Через насколько часов я уже был в Мосуле и как раз успел на ночной поезд в Багдад, чтобы на верблюдах вернуться через пустыню в Дамаск.
Днем 5 ноября я в пятый раз за последние четыре месяца въехал в Дамаск. В пустыне мы попали в песчаную бурю и задержались на пять часов. Мы остановились в неком полуоазисе, где рядом с колодцем расположилось лагерем бедавское племя со своими овцами и верблюдами. Здесь росло дерево – одно на две сотни миль.
Благодаря этим невольным отклонениям от моего маршрута, я смог ненадолго заехать в Амман, столицу Иордании, и сделать некоторые дела для моего друга в Англии и таким образом возместить кое-какие дорожные расходы. В последний раз я встретился с Эмин-беем. Я был не согласен с его убеждением в непогрешимости пророков и священных книг. Но он настаивал, что мы с ним находимся в полном согласии, и сказал своим ученикам: «Немногие мусульмане столь близки к Богу, как мистер Беннетт. Все потому, что он предает себя Воле Бога. Ему не нужны внешние упражнения или религиозные отправления». Меня не очень обрадовало его заявление, так как я не мог принять его главный тезис о том, что он был предвестником Второго Пришествия. Я не сомневался в его вере, искренности и любви к Богу, поэтому мне нелегко было спорить с ним. Широта религиозных взглядов странным образом уживалась в нем с его настойчивой буквальной интерпретацией. Он поведал мне о христианском священнике, обращенном им в Ислам. Священник предложил публично объявить о переходе в другую конфессию. «Это глупо, -сказал ему Эмин. -Ислам деградировал не менее, чем христианство. Твоя жертва ни к чему не приведет, а будет расценена как притворный героизм. Советую тебе ничего не предпринимать. Живи наставлениями Корана, которые соответствуют евангельским заповедям. Молись тайно, но явно делай добро людям. Те, кто узнают о твоих добрых делах, возможно, придут к тебе за советом, и тогда ты сможешь указать им правильный путь. Так ты добьешься большего, чем любым публичным признанием».
Его последними словами были: «Никогда не забывай, что вершина всех религий содержится в одном слове – ЧЕЛОВЕК. Наша задача – стать на земле ЛЮДЬМИ, – существами, внутреннее осознание которых пробуждено к пониманию и выполнению Воли Бога. Стать человеком – вот единственное, что имеет значение, внешняя форма ни о чем не говорит».
Утром я отправился в Алеппо, где познакомился с внуком последнего потомственного главы мевлевского ордена, почтенным дервишем Фархадом Деде, дедежианом, членом одного из тех немногих мусульманских орденов, дающих обеты бедности и целомудрия и посвящающих себя созерцанию . Как никто другой, каждое мгновение своей жизни он посвящал вере и повиновению Воле Бога. С бесконечным терпением и мельчайшими подробностями он рассказывал мне о методах духовных упражнений, которые веками практикуют мевлевские дервиши. В те дни шейхом этой маленькой общины был настоящий негодяй, ставленник сирийского правительства, для собственного обогащения способствовавший экспроприации принадлежащих монастырю земель и держащий свою маленькую группу дервишей, сократившуюся до трех стариков, на грани голодной смерти. Я не услышал от Фархада Деде ни слова жалобы и ни единым взглядом он не осудил того отвратительного обращения, которому он подвергался со стороны шейха в моем присутствии. Однажды мы были одни, и он сказал: «Шестьдесят лет я дервиш. Мой первый шейх был великим учителем, он учился в нашей старейшей текке в Конии и на всю жизнь сохранил ее традиции. Я побывал в текках Истамбула, Каира, Кипра, Иерусалима, Афуин Кара Хиссана, Алеппо и, разумеется, Конии. Шейхи не принимают, как мы, дедежианы, обетов бедности и целомудрия. Им приходится жить в миру и все зависит от их обученности. Несомненно одно: никто не может быть учителем, если не работал под руководством учителя. Только подлинный духовный наставник, муршид, может воспитать муршида. Настоящие шейхи всегда были редкостью, а теперь их вообще не осталось, и вскоре наш орден погибнет. Все кончено.
«Что касается меня, то моя душа предана Богу, и все, что в Его Воле, мне в радость. Если я смогу приехать в Англию и ты примешь меня, я отведу тебя к своему шейху, потому что твоя воля предана Богу. Мне же хватает моих лохмотьев и объедков, больше в этой жизни мне ничего не нужно». Он приготовил мне чашку чая неторопливо и удивительно тщательно, как и все, что делают мевлевские дервиши, большое или малое. Я покидал его со свежими силами и обогащенный новыми знаниями о суфийской традиции.
Из Алеппо через Искедерун я доехал до Аданы. Покидая Сирию, мы проехали под Римской триумфальной аркой. Эта поездка на север доставит удовольствие каждому любителю природы. Узкая прибрежная равнина по бокам окружена холмами. Каждые десять-двадцать миль встречаются гордые руины замков крестоносцев. Тауруские горы величественно поднимаются далеко на севере. Стояла осень во всей ее красе: платаны и дубы, желтые, красные и золотые. Ущелье горы Белан спускается с высоты 4.000 футов в голубые воды Заки Азнук.
В Адане меня ждало письмо, в котором Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке уведомляла меня, что порекомендовала мою кандидатуру турецкому правительству в качестве советника по развитию турецкой угольной промышленности. Предлагаемая зарплата заставила меня серьезно рассмотреть это предложение.
На следующий день я вновь отправился на восток, в маленький городок неподалеку от места, где Ефрат спускается вниз со степей Анатолии в воды Месопотамской равнины. Здесь я несколько дней прожил в небольшой общине дервишей в условиях, совершенно непохожих нате, которые мне доводилось испытывать ранее. Я остановился в доме умирающего, тестя молодого дервиша, пригласившего меня в Адану шестью неделями раньше. Мы спали в хижине прямо на сухой земле. Он с трудом дышал, стонал ночью и корчился от боли на земле. Каждое утро, за час до рассвета, он поднимался на молитву. С усилием, на которое было больно смотреть, он заставлял себя дойти до ближайшей мечети для совершения первой молитвы дня. Внутренняя молитва, или зикр, никогда в нем не останавливалась.
Я решил, что разделю их жизнь настолько, насколько это возможно. Со времени отъезда из Лондона я не брился и теперь носил развивающуюся сероватого цвета бороду и приобрел почтенный вид, снискавший мне титул Баба, отец – так меня называли, когда я бродил по базарам или сидел в чайхане. Пять раз в день я отправлялся в мечеть на молитву, а остальное время проводил, навещая различных дервишей, уча наизусть стихи из Корана или повторяя зикр, которому меня научил Эмин-бей. Вечером мы встречались в лачуге, где ночевали. Обычно перед сном собиралась небольшая группа дервишей, и мы беседовали. Должен признаться, что ночи выводили меня из себя, так как я не мог привыкнуть к тараканам, забирающимся ко мне под одеяло.
На третий вечер к нам присоединился бородатый мужчина около тридцати лет от роду, назвавшийся хаджой Хассаном из Каузери. Я узнал, что он был известен в отдаленных турецких провинциях своими страстными молитвами и прекрасным голосом, который вызывал слезы на глазах у присутствующих, когда он нараспев читал Коран или призывал к молитве. Хассан-эффенди, мой старый приятель из Аданы, сказал мне, что молодой хаджа только внешне кажется простым молящимся. На самом деле, он один из выбранных Великим Учителем посвященных.
Мы вместе поели, сидя со скрещенными ногами на полу и беря еду прямо пальцами или кусочками тонких лепешек из пресного теста, как это принято в деревнях. После еды хаджа Хассан умылся и, вернувшись, сел в дальнем углу комнаты, а не рядом со мной, как раньше. Я раздумывал, с чего бы это, как вдруг он начал, импровизируя, петь по-турецки прекрасные стихи на прекрасную музыку, выражавшие длинное приветствие в мою честь. У него был удивительной чистоты голос, необычный для турка, и отсутствовали традиционные носовые звуки. Он пел, наверное, минут десять, два или три раза изменяя размерность и ритм музыки. Он пел о радости от моего прихода, о том, что я увезу с собой в Англию; он призывал благословение на моих учеников, но больше всего, он молился об исполнении желания моего сердца найти муршид-и-киамила – совершенного Учителя, и чтобы я сам продвинулся по пути совершенствования. Он выражал радость, которую испытывают все дервиши от того, что я брат им, и надежду, что я или останусь надолго, или вернусь к ним когда-нибудь еще.
Это было прекрасно, без лишней сентиментальности, но с глубоким чувством. Закончив петь, он вновь сел рядом со мной. Никто из присутствующих не заговорил о песне. Они попросили меня рассказать о странах, в которых я побывал, и об их духовной жизни. Мы долго сидели, и они с редким вниманием слушали рассказы о моих приключениях.
Я сказал им о предложении стать советником по угольным исследованиям при турецком правительстве. Они расценили это как знак, что я должен оставить Англию и посвятить себя целиком жизни дервиша. Они рассказали мне о великом духовном Учителе, который жил, неизвестный миру, в отдаленной части Курдистана. По их словам, он был мутессариф-уз-земаном, то есть Регентом Бога на земле, и, если я буду терпеливым, я смогу встретиться с ним и войти в круг его ближайших посвященных, среди которых я был бы первым европейцем.
Вера и глубокое благочестие этих людей, постоянно практикующих молитвы и медитации, оказали столь сильное воздействие на меня, что Англия, жена и друзья, обязательства в Кумб Спрингс показались мне далекими и туманными. Я чувствовал себя настолько хорошо и умиротворенно, что приписал это действию окружения, так как сам не изменился. Пока я размышлял над сказанным, хаджа Хассан взял мою левую руку в свою правую и некоторое время сидел молча, тихо раскачиваясь из стороны в сторону, как человек, повторяющий внутреннюю молитву. Я почувствовал, что он ясно видит мое внутреннее состояние, и сконцентрировал внимание на вопросе: «Должен ли я принять предложение турок?» Придя в себя, он сказал: «Советую вам перед сном вымыться с головы до ног, исполнить тринадцать молитв и простираний ниц и поручить свой вопрос Богу. Ночью Он ответит».
Я проснулся внезапно в половине пятого утра. В хижине было совершенно темно. Другие ее обитатели спали. Сон совершенно слетел с меня, и, сев на пятки, я начал повторять имя Бога. Передо мной появился смутный свет, ставший колодцем. Жаждущий человек припал к колодцу, но у него не было ведра. Ведро оказалось в моей руке, и я услышал, как голос сказал по-турецки:
«Ewela vasifa yap sonra kendine bak» (“Сначала выполни свой долг, а потом заботься о себе.”). Видение закончилось, и я почувствовал, что вернулся обратно в Кумб Спрингс. Только рассвело, я один стоял в саду, ожидая начала утренних работ. Это.тоже исчезло, и вновь я услышал прерывистое дыхание умирающего человека. Услышав на следующий вечер рассказ о моем опыте, все согласились, что он указывает на необходимость возвращения, хотя бы на время, в Англию. Все были и равно убеждены, что в нем содержится намек на возрождение Кумб Спрингс и что я должен быть готов к большим переменам. Дни, проведенные у дервишей, оказались гораздо более тяжелыми, чем все путешествие. Я жил в условиях, к которым совершенно не привык. Со мной, христианином, обращались как с правоверным мусульманином. Через несколько дней я не мог войти в мечеть, так как все, и молодые, и старые, окружали меня и старались дотронуться до моей одежды. Я узнал, что дервиши рассказывали обо мне как об англичанине, принявшем Ислам, на редкость благочестивом, получавшем различные чудесные знамения. В азиатских деревнях и городках все еще живо древнее поверье, что, прикоснувшись к святому человеку, можно стяжать добродетель. Я очень переживал по этому поводу, осознавая, как никогда раньше, полное отсутствие во мне святости. Мои недостатки живо предстали передо мной, увеличенные до гротескных размеров тем искусственным положением, в котором я оказался. По мере того, как мое пребывание приближалось к концу, я начал считать часы до своего освобождения, и все же я ни за что не упустил бы такую возможность. Разве я мог жаловаться на то, что из-за интенсивности переживаемого опыта часы уподобились дням, а дни – месяцам. Я приехал на Восток за новыми впечатлениями, и я их получил, был ими раздавлен и убегал прочь!
После посещения дервишей я поехал в Анкару, затем к западу в Каре, где провел годы своей молодости Гурджиев. Невероятные снегопады и пронизывающий холод застали меня в Каусери, древней Кесарии, родине Великого Св. Василия и центре каппадокийского христианства. На прогулке по склонам Маунт Эрцияс, огромной горы вулканического происхождения, возвышающейся над каппадокийской степью, моя борода заледенела. Только несколько недель назад я грелся под солнцем Вавилона. Снежные сугробы были такой толщины, что мне пришлось вернуться обратно в Сари Камиш, где, как говорил Гурджиев, «растут самые высокие сосны в мире».
Глава 24
Северная Персия
Словно в другой мир, я возвратился в Англию. Жена вскоре убедила меня расстаться с бородой. Проблемы Кумб Спрингс вновь навалились на меня. Я оказался перед выбором. Либо мы должны были расширять работу и привлекать как можно больше людей, либо она остановится из-за недостаточной поддержки. Я оттягивал решение столько, сколько мог, надеясь на объединение целью и деятельностью с другими группами, следующими по пути Гурджиева. Наконец стало очевидно, что время объединения пока не пришло. Субординация не приводит к объединению, если только она не спонтанна и не навязана. Я мог принудить себя следовать тенденциям, которые вели лишь к выхолащиванию всего, за что боролся Гурджиев, но я не мог внутренне принять их.
Год 1954 принес мне много страданий. Моя жена, уже почти восьмидесяти лет от роду, пережила новое кровоизлияние в мозг, чуть не стоившее ей жизни. Много дней ее жизнь висела на волоске, и, когда она наконец вернулась, ее ум помешался. Трудно было узнать в ней женщину, от любви которой в Кумб Спрингс все расцветало; теперь казалось, она ненавидела это место. Я пытался путешествовать с ней на автомобиле, но она постоянно стремилась выброситься из машины, или же поворачивалась ко мне и хваталась за мои волосы, так что вести машину было совершенно невозможно. Долгие, бесконечно долгие часы она визжала, как перепуганное животное, и никакие седативные средства не помогали. Лишь благодаря любви и преданности ее друзей в Кумб, мы могли оставить ее в доме, хотя и днем, и ночью за ней нужен был глаз да глаз.
Лишь тот, кто пережил то же, что и мы, может разделить с нами то мучение, которое мы испытывали, наблюдая распад благороднейшей души под влиянием вроде бы только телесных причин.
В течение года я продолжал вести группу и каждое воскресенье в Кумб регулярно приезжали ученики. Поведение моей жены оставалось совершенно непредсказуемым, и мы не могли ни изолировать ее, ни хотя бы попытаться сделать это. Для всех нас это было испытание, но, наверное, самым трудным онао оказалось для меня. Более тридцати лет мы были мужем и женой; мы делили горести и беды и вместе наслаждались совершенным счастьем, а теперь я был бессилен как-нибудь ей помочь.
Через несколько месяцев она несколько попритихла, но внешне она больше не походила на женщину,- которую я знал. Странные, скрытые страхи и обиды, о которых я и не подозревал, всплыли на поверхность. Казалось, ее не отягощала необходимость постоянного присмотра. До этого года я думал, что знаю, что значит страдать, но это было хуже всего, что я когда-либо испытывал в жизни. Я глубоко чувствовал свою вину, я должен был понимать ее лучше.
Я не могу, а если бы и мог, то не стал бы, описывать, что значит жить рядом со слабоумным. Все эти ужасные месяцы я не терял надежды, что она поправится. Я был убежден, что ее подлинное «Я» осталось нетронутым, а то, что казалось его распадом, на самом деле было всего лишь неспособностью машины общаться.
Самое тяжелое бремя по уходу за ней несла ее близкая подруга Эдит Вичманн, жившая с нами в Кумб Спрингс с 1947 года, но ей помогали еще десятки человек. Опять и опять мне советовали отправить ее в больницу. Доктора объясняли мне, что от старческого слабоумия не излечиваются. Друзья, жившие за пределами Кумб, пеняли мне за то, что я подвергал домочадцев столь горькому испытанию. Но ни один из нас не дрогнул и ни на минуту не сомневался, что она должна быть рядом с нами.
В это тяжелое время я вернулся к своим писаниям. Годами я боролся с «Драматической Вселенной». Я уже переписывал ее четыре или пять раз. Я был чуть ближе к удовлетворительному результату, чем десять лет назад. В этом году доктор Морис Вернет посоветовал мне разделить ее на две части, отделив материальное от духовного, попытку систематизировать все факты от попытки собрать все ценности на новой основе. Доктор Вернет – один из самых близких моих друзей. Я познакомился с ним во Французском Институте в Лондоне в 1952 году,, и, хотя все эти годы мы редко виделись, я был уверен, что мы понимаем и любим друг друга. Я особенно ему благодарен за то, что он предложил лечение для моей жены, которое не попробовали английские врачи. Оно помогло ей, и через год после кровоизлияния в мозг приступы острой Деменции, когда она только визжала и уничтожала все, что любила и лелеяла, оставили ее.
Летом мы устроили ей чудесное место в залитом солнцем саду, где она могла лежать на воздухе. К несчастью, к ней подходили посетители и пытались завязать механическую беседу типа: «Как хороши эти розы, не правда ли?» Любая неискренность злила ее, и она могла в ответ вскрикнуть: «Ненавижу розы, никогда больше не говорите мне о них!» Близкие постепенно осознали, что она освободилась от всех ограничивающих механизмов, которые обеспечивают «благовоспитанное» и «цивилизованное» поведение. Она выражала то, что чувствовала в данный момент.
Иногда это было очень болезненно, но мы начали ценить эти «моменты истины», когда она с грубой правдивостью высказывалась о человеке, стоящем перед ней. Однажды к нам приехала после долгого отсутствия одна старая приятельница. В глубине души она побаивалась моей жены и ее высказываний, не всегда приятных, даже когда та была здорова. Уже уходя, она увидела мою жену в инвалидном кресле, подошла к ней, наклонилась к ее лицу и произнесла: «До свиданья, Полли, дорогая, я так люблю тебя!» Жена открыла глаза, оттолкнула ее и звенящим голосом произнесла: «Лгунья!», закрыла глаза и заснула. Дама, о которой идет речь, больше никогда не посещала наш дом. Те из присутствующих, которые услышали в ее тоне неискренность, не удивились ответу. Но зачастую посетители вообще ничего не понимали и удалялись разозленные или расстроенные.
Для меня весь этот опыт стал как бы переобучением. Голос, много лет скрывавший от меня и остальных все мои слабости и недостатки, теперь высказывал их прямо мне в глаза. Я понял, что то, что психиатры считают слабоумием, на самом деле может быть проявлением скрытой мудрости, которую обычная человеческая личность боится и не хочет признавать. И в этом взгляде я не был одинок. Еще несколько человек знали, что находиться рядом с моей женой означало пройти чистилище, и те из них, кто хотели очиститься, были глубоко благодарны ей за ее слова и поступки.
Однако мои проблемы не ограничивались болезнью жены. Со всех сторон меня одолевали разногласия. Летом 1954 года стало окончательно ясно, что мы не сможем объединиться с группой мадам де Зальцман. Болезнь жены легла тяжким бременем на все наши взаимоотношения. Я полагал, что происходящее с ней являлось очищением для нее самой и уроком для окружающих. Те, кто видел в ней старую женщину, чей мозг поврежден кровоизлиянием и место которой в доме для умалишенных, сразу становились в наших глазах невосприимчивыми к глубинной реальности. Душераздирающий опыт может и не стать трагедией или катастрофой, он способствует усилению веры, но иногда потрясает или даже разрушает ее.
Между теми, кто считал болезнь моей жены страшным, но бесконечно ценным уроком, и теми, кто полагал, что это горе или несчастный случай и мы должны молиться, чтобы скорее избавиться от всего этого, была пропасть.
В жизни никогда не встречаются однозначные ситуации, поэтому было бы неверно думать, что все, знавшие мою жену, разделились на два лагеря. Но разделение все же было. Имевшие мужество любить ее и оставаться рядом с ней получили неизмеримо больше от нее в состоянии деменции, чем тогда, когда она прятала под замком свои внутренние чувства. Но державшиеся в стороне не могли надеяться узнать то, что узнавали мы.
Мы все дальше отдалялись от мадам де Зальцман из-за нашего отношения к Кумб Спрингс. Мы верили в него. К нам приезжали гости из разных стран, и постепенно он приобретал известность центра духовной деятельности. Пока я работал и получал зарплату, я мог поддерживать его материально, но теперь это прекратилось. Чтобы поддерживать Кумб Спрингс на должном уровне без особого напряжения, нам нужно было набрать три-четыре сотни студентов и слушателей. Для этого я читал публичные лекции. Об их целесообразности, как л вообще о любом действии, направленном на распространение гурджиевского учения, много спорили. Для меня подобные разногласия казались бессмысленными, так как сам Гурджиев неоднократно настаивал на публикации «Все и Вся» и на том, чтобы любыми средствами обеспечить известность этой книге, вплоть до того, чтобы останавливаться в общественных местах и читать вслух отрывки из нее.
Я чувствовал, что решение распространять книгу обычным коммерческим путем было предательством по отношению к нему. Циркулярное письмо, написанное мной под его диктовку в январе 1949 года в Чайлдсе, собрало достаточно денег, чтобы отпечатать тысячи экземпляров и распространять их бесплатно. Здравый смысл возражал мне, что никто не станет читать книгу, доставшуюся ему за так. Но я продолжал чувствовать, что ее следовало бы сделать более доступной. Казалось, напротив, к «Баалзебубу» относятся как к невыносимому старому родственнику, которого лучше держать подальше от людских глаз. Это отдаляло меня от тех, кто не разделял моих чувств.
Причины отделения, разумеется, были и во мне. Со мной всегда было трудно работать. Мою привычку соглашаться, а потом делать по-своему, могли вынести лишь те, кто привык ценить даже крупицу золота, найденную в куче отбросов. Во имя единства я шел на реальные жертвы, а потом одним словом мог уничтожить все взаимопонимание, достигавшееся последовательностью действий, которой я соглашался придерживаться. Еще в школе наш классный руководитель в шестом классе качал головой, глядя на меня, и изрекал: «Лучше подчиниться, чем пожертвовать, и выслушать, чем вбить себе в голову». Больше сорока лет прошло, а я все еще не усвоил урока.
В это время в моей жизни вновь появилась Элизабет Майял, теперь Элизабет Говард, со своими двумя сыновьями, Джорджем и Вильямом. После смерти Гурджиева она осталась во Франции и только три года спустя решилась вернуться с детьми в Кумб Спрингс. Прошедшие годы никак не отразились на взаимопонимании, установившемся между нами в Париже. С тех пор как она впервые пришла на мою лекцию в конце войны, я был убежден, что наши судьбы связаны. Я полностью доверял ей, и наши взгляды на то, что действительно важно в жизни, совпадали.
В то время Элизабет чуждалась людей, что сбивало с толку тех, кто не мог разглядеть ее застенчивости. Острое чувство юмора, не без язвительных ноток, скрывало от людей ее человечность, и многие чувствовали себя неуютно и даже лишними в ее присутствии. С самой первой встречи моя жена полюбила ее общество, и мы много путешествовали вместе. Я не чувствовал противоречия между глубокой любовью к моей жене и той связью, которая установилась между мной и Элизабет. Будучи мужчиной, я не мог понять их и не знаю, не был ли я причиной страданий, о которых не догадывался.
Во время острой стадии болезни моей жены, когда с ней было совершенно невозможно общаться, Элизабет не оставляла нас своей поддержкой и утешением. На наших глазах глубинное осознание моей жены постепенно освобождалось от обычного сознания. Элизабет, так же, как и я, оценивала Эти изменения в терминах истинной и ложной сущности человека. То, что мы видели, было чудесно, но не загадочно. Возможно, многие из тех, кого признают больными и подвергают разрушительному лечению, являются временными каналами глубинной подсознательной мудрости человеческой души. Когда бы мне ни говорили о «невозможности общения» с больным человеком, я вспоминал свою жену. Однажды психиатр из социальной службы пришла к нам в дом, чтобы подписать заказ на инвалидную коляску в Министерство здравоохранения. Ее встретил весьма грубый прием моей жены, и, поспешно ретируясь, она говорила: «Редко же мне доводилось видеть таких, с которыми невозможно общаться. Вы уверены, что ей место дома?» Чтобы не показаться враждебным по отношению к восхитительному британскому здравоохранению, добавлю, что мы не смогли бы справиться с ней без великолепно обученных нянек и помощи сорока или пятидесяти человек, живших в Кумб. Я боюсь даже думать о том, что было бы, если бы мы жили в небольшом доме среди недоброжелательных соседей. К несчастью, то, что возможно сделать для одного человека, невозможно для многих.
Я должен вернуться к марту 1955 года, когда я получил приглашение от Поля Байдера, американского архитектора и бывшего ученика Гурджиева, погостить у него и его жены Маргарет в Багдаде, где они тогда жили. К тому времени жена моя оправилась настолько, что ее можно было без опаски оставить на короткое время и съездить на Восток. Я решил уехать недели на две и взять с собой Элизабет Говард, благо нам достались дешевые билеты.
Мы отправились в путь в ночь 11 мая, собираясь утром оказаться на Кипре, но были посажены в Бенгази, где несколько часов наслаждались звуками и запахами Африки. Только к вечеру мы добрались до Кипра и едва успели на самолет, отправлявшийся в Бейрут. Нас встречали друзья, Ромимунд фон Биссинг и его жена. Они сказали, что меня целый день ждет турецкий дервиш с посланием. Я поговорил с молодым человеком, он пригласил меня навестить его муршида, шейха Абдуллу Дагестанского, жившего в курдском квартале Дамаска. Я с сожалением ответил, что это невозможно, так как мы рано утром отправляемся в Багдад. Он не настаивал, но повторил, что шейх ждет меня.
Взяв такси в бейрутском аэропорту, мы прямо направились в Дамаск по дороге, по которой я ездил несколько раз, когда был в Сирии. В Дамаске мы узнали, что автобус отправляется в Наирн не раньше следующего дня. Поэтому я решил навестить шейха Абдуллу.
Элизабет проводила меня до могилы Мухиддина Ибн Араби. Так как Эмин Чихоу наотрез отказывался говорить с женщинами, я решил, что шейх Абдулла также не захочет общаться с Элизабет,, и отослал ее обратно в отель. Мне не сказали, где живет шейх, но я должен был узнать об этом в магазинчике цирюльника, прозванного турецким Али, как раз напротив мечети Ибн Араби. Турецкий Али заболел и был отправлен в больницу, а в какую – никто не знал. Казалось, я зашел в тупик, но отойдя на несколько шагов от могилы святого, я лицом к лицу столкнулся с тем самым старым хаджой, который восемнадцать месяцев назад проводил меня к святыне Арбайн. Он явно ждал меня и, когда я спросил, где дом шейха Абдуллы, просто ответил: “Недалеко от той дороги, по которой мы шли в последний раз.” По пути он рассказал мне, что шейх известен как очень святой человек. Его родина – Дагестан, рядом с Каспийским морем, поэтому его зовут Абдуллой Дагестанским. Много лет он прожил в Турции и в совершенстве знает турецкий язык. Он много путешествовал и принимал гостей со всего мира. Скорее всего, мы найдем его в небольшой мечети, специально для него выстроенной его учениками.
Шейх ожидал меня на крыше своего дома. Дом находился на возвышении, и с крыши открывался превосходный вид на город. Абдулла Дагестанский оказался человеком среднего роста, с белой бородой, но гораздо моложе на вид тех семидесяти пяти лет, которые приписывал ему хаджа. Я с самого начала почувствовал себя легко и вскоре ощутил огромное счастье, наполняющее это место. Я понял, что нахожусь в обществе действительно замечательного человека.
После обычных приветствий и похвал моему турецкому он сразил меня наповал вопросом: “Почему же Вы не взяли с собой свою спутницу? У меня и для нее есть сообщение.” Невозможно себе представить, чтобы кто-нибудь рассказал ему об Элизабет. Мы подошли прямо к дому, где мой проводник, хаджа, удалился, не сказав ни слова. Я ответил, что, поскольку шейх мусульманин, я подумал, что он не станет говорить с женщиной. Он просто возразил: “Почему же нет? Правила и обычаи – защита для дураков, меня они не касаются. Будете в следующий раз в Дамаске, приходите вдвоем.”
Я обещал, если представится возможность. Долго мы сидели молча, глядя на древний город. Когда он начал говорить, я с трудом вышел из глубокой задумчивости, в которую впал. Он говорил: “Я ждал кого-то сегодня, но не знал, что придешь ты. Несколько ночей назад в моей комнате появился ангел, предупредил о твоем приходе и велел передать тебе три послания. Ты спрашивал Бога о том, что тебе делать с женой. Она в руках Господа. Ты пытаешься помочь ей, но это неверно. Ты мешаешь работе, которую Бог совершает в ее душе. О ней нет причин беспокоиться, и бессмысленно пытаться что-то понять. Второе послание касается твоего дома. Ты спрашивал Бога, должен ли ты следовать за остальными или идти своим путем. Ты должен доверять себе. Тебя будут преследовать армяне, но ты не бойся. Ты должен привлекать к себе как можно больше людей и не должен колебаться, даже если остальные будут нападать на тебя за это.”
Он вновь замолчал. Я был поражен первыми двумя посланиями, потому что действительно спрашивал об этом Бога. Если он был прав, передо мной открывался ясный путь. Я уже прикидывал план публичных лекций, которые мог бы прочесть осенью, когда он прервал мои мысли.
“Самое важное послание – последнее. Как ты знаешь, в мире много зла. Люди поклоняются материальным вещам, потеряв волю и способность почитать Бога. Чтобы показать выход из таких ситуаций, Бог всегда посылает на землю Посланцев, то же он сделал и теперь. Посланец уже на земле, и он многим известен. Вскоре он придет на Запад. Нужны люди, которые подготовят ему путь. ” До этого он говорил тихо, констатируя факты. Здесь его тон изменился, речь замедлилась, он привлекал все мое внимание: “Мне было показано, что ты один из тех, кто приготовит путь. На Запад тебя зовет Долг. Люди послушаются тебя: когда наступит время говорить – ты поймешь.
Посланец придет в твою страну и прямо в твой дом. Возвращайся и приготовься к встрече. Не говори никому о том, что услышал здесь, потому что, пока не придет время, тебе все равно не поверят. Последователи армянина будут преследовать тебя, если узнают, что ты делаешь. Поэтому сохрани это в себе.”
Я не понимал, что он имеет в виду, и сказал об этом. Он ответил, что понимать необязательно, надо быть готовым. Он заметил: “Ты никогда не перестанешь почитать Бога, но не надо показывать этого. Веди себя внешне также, как и остальные. Бог назначил двух ангелов заботиться о тебе. Один будет направлять и руководить тобой, так что ты больше не будешь делать ошибки, как раньше. Другой будет исполнять за тебя религиозные обязанности, которые ты не можешь исполнять сам.”
Затем он сказал, что полностью передал мне послания, но хотел бы добавить кое-что от себя. Он рекомендует мне практиковать непрерывное подчинение Воле Бога. Он сказал, что тому, кто активно и сознательно сдается на милость Господа, нельзя причинить вреда. “Советую тебе, – сказал он, -часто повторять в своем сердце слова la ilahe il Allah, что означает “сдаюсь только одному Господу.” На мое возражение, что это мусульманское выражение веры, он ответил, что оно настолько же христианское, насколько и мусульманское, так как основание у всех религий общее, и заключается оно в том, что человек подчиняется не своей воле, а Воле Бога. Он еще раз повторил свои слова: “Тебе нечего бояться, поскольку отныне ты находишься под защитой. Ничего дурного с тобой не произойдет.”
Мы еще немного посидели рядом. Я расспросил его о великом муршиде дервишей, о котором я слышал в Анатолии. Он сказал: “Я его знаю. Он мой друг и недавно был у меня. Внешне он выглядит незначительным и маленьким человечком, но он – подлинный Вали – то есть святой.” Он добавил, что в мусульманском мире есть еще те, кто осведомлены о том, кто придет, и они готовят себя и других. Он продолжал говорить в эсхатологических терминах, но в некоторых аспектах его слова серьезно отличались от того, что я слышал от Эмина Чикхоу. Когда я упомянул имя Эмина, то уловил тень сомнения, прежде чем он ответил: “Он достойный человек и делает много хорошего.”
Перед уходом я попросил разрешения прийти еще раз через десять дней. Возвращаясь в отель трамваем и спускаясь с холма, я спрашивал себя, стоит ли принимать всерьез его пророчества. Два его “послания”, касающиеся моей жены и дома, били точно в цель. Вряд ли он мог узнать довольно много из какого-то земного источника, чтобы понять, насколько сейчас для меня важны именно эти вопросы. Намеки на армян встревожили меня. Мать Гурджиева была армянкой, и вся его семья в большинстве своем армяне, а не греки. Это предупреждение могло говорить о том, что последователи Гурджиева ополчатся на меня.
Владел ли он даром предсказания? Действительно ли его предупреждал ангел? Я вспомнил ангела, “говорившего” со мной о смерти в сентябре 1947. Я верил в ангелов, хотя не имел представления об их истинной природе. Если Абдулла Дагестанский получил аутентичное послание, касающееся меня, никак не связанное с восприятием или мышлением, то его уверенность в существовании Посланца Бога также должна быть подлинной. Я даже вздрогнул от такого вывода. Мир устал от провозглашения его неминуемых концов, а человечество – от все новых пророков. Семь лет назад я сам писал о Новой Эпохе и проявлении Святого Милосердия. Шейх не сказал ничего такого, что не могло быть правдой, но уж слишком это все было невероятно. Я не мог прийти к определенному заключению и решил последовать его совету и не пытаться понять то, что он мне сказал.
Я присоединился к Элизабет, расстроившейся, узнав, что и она могла встретиться с шейхом. После обеда мы отправились в Багдад по уже знакомой мне дороге. Байдлеры уже ждали нас, поэтому, несмотря на жару и усталость, мы в тот же день поехали в Вавилон. Впечатление, создавшееся у меня во время предыдущего визита о том, что Вавилон не мертвый город, а сохранил память о прошлом опыте, усилилось и было разделено моими спутниками. Нам не захотелось оставаться в Ираке и на следующее утро мы уже ехали в приграничный город Ханикни. До границы мы добрались только днем, когда все было закрыто на сиесту. Я вошел в полутемное помещение, где располагались офицеры-пограничники, и увидел старого турка, одиноко дремавшего за столом. Он проснулся и поздоровался со мной, и мы завели разговор, из которого выяснилось, что он был в прошлом турецким офицером и служил во времена Высокой Порты. Он помнил некоторых офицеров, с которыми был знаком и я, и это установило между нами связь. Родом из Ирака, он уехал из Истамбула с падением султаната и теперь был на службе у Иракского правительства. Он произвел на меня впечатление человека, нашедшего в духовной и религиозной жизни ту безмятежность, которая делала его безразличным к неудачам.
Он взял на себя заботы по переводу нас через границу без часов мучительного ожидания. Когда мы прощались, он тихо шепнул мне: “Обычно путешественники, направляющиеся в Техран, останавливаются в Кирманшахе. Осмелюсь предложить вам отдохнуть в Керинде. Там хороший дом для гостей и в нем можно встретить интересных людей.” То, как он сказал это, предполагало нечто большее, чем просто хорошие кровати, поэтому мы решили последовать его совету. Наградой нам послужили крайне интересные встречи и знакомства.
Одним из них был дервиш-одиночка, а другим – община дервишей, живущих втекке на задворках маленького городка. Мы останавливались в Керинде и на обратном пути.
Трудно представить себе более прекрасную местность. Северный Иран пересекают горные хребты. От Кабир Куха на юго-западе до Эльбруса на северо-востоке тянутся цепочки гор, высотой от десяти до девятнадцати тысяч футов над уровнем моря. По дороге на восток мы проезжали мимо трех или четырех таких цепочек. Керинд расположен в узкой долине, ведущей к высоким горам от Кирманшахской долины. Везде текут ручьи, и шум водопадов смешивается с цоканьем копыт мулов и лошадей. Темнокожие курды с суровыми морщинистыми лицами перемешались с персами, которые так же часто встречаются в этих местах, как и черкесы. И мужчины, и женщины Керинда очень стройны. Маленький городок издревле был центром работы по металлу. Не теряя своей древности, он воспринял реформы последнего шаха, и теперь в нем была хорошая средняя школа. Но радио, электричество, газеты в нем отсутствовали, автомашин было крайне мало. Поль Байдлер, глубоко изучавший проблемы переселения азиатов в связи с ирригационными и другими проектами развития региона, был очень обрадован увиденным, так как это свидетельствовало о том, что спокойная жизнь в Азии сохраняется при возможности дать детям образование, а старикам – улучшенные санитарные условия. Мы говорили друг другу, что если бы могли уйти на покой, то поселились бы здесь, в Керинде, скорее, чем в любом другом месте. Везде нас окружала необыкновенная красота, и смешливые гостеприимные персы, столь отличающиеся от подозрительных обидчивых сирийцев, охотно позировали перед камерой или показывали нам своих детей.
Дервиш Ахмад Табризи жил в миле от города, в лачуге рядом с могилой забытого святого. Поль Байдлер поднялся к нему и нашел его одного. Я отстал, чтобы записать (первый раз мне представилась такая возможность!) свои впечатления о шейхе Абдулле Дагестанском и о том, что он мне поведал. Закончив работу, я, пользуясь указаниями жителей деревни, последовал за остальными и присоединился к ним на крыше, где они пили чай с семьей жандарма. Поль сообщил, что нашел дервиша и, так как солнце уже почти село, предложил навестить его на следующее утро. Не раздумывая, я предложил: “Давайте пойдем прямо сейчас.” Я чувствовал необходимость встретиться со стариком без промедления. Мы поднялись по узкому ущелью в тени огромных деревьев и вышли в широкую долину. Далеко к юго-западу снег, покрывающий вершины Пушт-и-Кух, отражал лучи заходящего солнца. Вид был величественный и умиротворяющий, мы вошли в небольшой домик, где сидел Ахмад Табризи. Он уже был не один – несколько молодых людей, которых мы позже сочли дервишами, сидели на полу у его ног. Он не говорил по-арабски, поэтому Поль обратился к одному из молодых людей и начал задавать ему вопросы. Дервиш и я говорили по-турецки. Он говорил на североперсидском диалекте, достаточно близком к оттоманскому турецкому, чтобы я мог с легкостью понимать его. Для начала я заговорил о шейхе Ассане Себистери из Тебриза. Он слышал о нем, но явно им не интересовался. Тогда я спросил, был ли он в Бухаре. Он ответил, что много путешествовал по Туркестану и Афганистану и совершал паломничества в Мекку и Кербалу. Некоторое время он жил в Кербале, но никогда не примыкал ни к какому ордену. “Всю свою жизнь, – сказал он, – я шел один. Я останавливался там, где могузнать что-нибудь полезное о религии. Узнав все, что можно, я шел дальше. Я нашел все, что хотел, на этой земле и, если будет на то Воля Божья, останусь здесь до конца своих дней.” Я спросил: “Всю жизнь Вы следовали религиозному пути. Скажите, что, согласно Вашему пониманию, означает быть подлинным дервишем?” В ответ он сослался на разницу между Тарикатом и Марифатом, то есть между Путями и Просветлением. Он уважал Пути и знал, что для некоторых людей необходим Муршад, или руководитель. Но в отношениях между учителем и учеником таилось много опасностей, и сам он предпочитал ждать, пока Бог не просветит его. Он прибавил, что, по его мнению, венцом любой религии является предание себя Воле Бога. Вот то единственное, что отличает подлинного дервиша. В чем бы человек ни полагался на свою волю, он рисковал впасть в смертный грех.
Я сказал, что моя беда в том, что я не знаю Воли Господа, на что он ответил: “Тогда ты должен терпеливо ждать. Терпение и будет твоим подчинением и доказательством твоей веры.”
Тут Поль Байдлер, оживленно беседовавший по-арабски с двумя дервишами, подошел к нам и сказал, что в деревне есть текка дервишей Джелали, то есть Ордена Безупречных. Я поинтересовался, что о них думает Ахмад Тебризи, и он ответил: “Это хорошее братство. Они постоянно призывают Бога. На мой взгляд, это необязательно, так как Божьи ангелы непрерывно наблюдают за нами и им ведомы тайны наших сердец. Тем не менее, советую тебе поехать и навестить их. Увидишь сам, кто они и что собой представляют.”
Мне не хотелось покидать старика. Он не открыл мне ничего нового и не объяснил ничего известного, но в его присутствии я ощущал веру и любовь к Богу. По сравнению с ним я был еще сырой глиной. Даже Фархад Деде не достиг такого осознания Присутствия Бога. Я чувствовал свою ущербность, все еще оставаясь рабом собственного упрямства. Я мог искренне сказать: “Да будет Твоя Воля”, но не мог с такой же убежденностью произнести: “Пусть моя воля растворится в Твоей.” Я хорошо понимал, какая пропасть лежит между принятием Воли Бога и подчинением своей воли Его.
Мы покинули Ахмада Тебризи и вернулись в Керинд с двумя или тремя молодыми дервишами. Они рассказали нам, что только что в текке побывал великий шейх из Туркестана, и в его честь прошлой ночью исполнялись танцы и песнопения Ордена Джелали. Они полагали, что их шейх повторит представление, так как мы столь искренне заинтересовались им. Я догадался, что об этом их попросил Поль Байдлер, так как он хотел найти связь с гурджиевскими ритуальными движениями.
Текка расположена в пятидесяти ярдах от основной дороги из Багдада в Тегеран и Кабул. Мы проезжали ее по дороге на восток и даже не заподозрили ее присутствие. Несомненно, сотни путешественников ежедневно проходят мимо великих стен, полагая, что за ними, также, как и повсюду вдоль дороги, скрываются сады и виноградники. Прибыв в Керинд в первый раз, мы расспрашивали о дервишах, но нас вежливо уверяли, что в этих краях о них и не слыхали. Разумеется, все знали об Ордене, но никто и виду не подал. Позднее я убедился в этом, когда двум или трем различным группам путешественников я дал точные приметы текки и рекомендательные письм? к шейху, но они ничего не нашли. В деревне их уверяли, что дервиши давно покинули это место.
Шейх Джелали был высоким, стройным персом, немного говорившим по-турецки- Текка занимала несколько акров земли, окруженных высокими стенами, за которыми располагалось несколько зданий. Эти дервиши были женаты, и нас пригласили в сераль, или здание для приема гостей, где к нам
присоединились жены шейхов и сели рядом с Элизабет и Маргарет Байдлер. Пригласили старика, знавшего турецкий, и он сел вместе со всеми за длинный стол. Мы с Элизабет были поражены сходством устройства этого стола с гурджиевскими застольями. Я не буду приводить здесь всю беседу, отмечу только тот факт, что мы понимали друг друга почти без слов. Все они практиковали духовное упражнение, заключавшееся в повторении зикра, о чем свидетельствовало почти незаметное раскачивание туловища из стороны в сторону или головы вперед-назад. Поль спросил, можем ли мы увидеть их ритуал, и шейх пригласил нас погостить неделю, так как он исполняется только ночью накануне пятничной молитвы. К сожалению, я пообещал прочитать на Кипре лекцию, и день нашего возвращения был предопределен.
Когда мы приехали в Дамаск, я взял Элизабет и повел ее к шейху Абдулле Дагестанскому. Он сказал ей: “Этот человек избран Богом для большой задачи. Ты выбрана, чтобы служить и помогать ему. Ты будешь ему нужна и никогда его не покинешь. То, что ангелы делают для него в невидимом мире, ты должна будешь сделать для него в видимом.” Элизабет объяснила, что мы не женаты, но он отмахнулся от этого возражения: “Вы должны быть вместе по Воле Бога, и ваши души объединятся.” Он продолжал рассказывать более подробно о том, что и когда она должна сделать, а потом вновь повернулся ко мне со словами: “Скоро ты получишь знак.”
Немного в мире найдется видов чудеснее, чем Дамаск с высоты холма на заходе солнца. Сидя в тишине и глядя на старый город рядом с шейхом в безупречно белом бурнусе и тюрбане и со столь же белой бородой, мы чувствовали бесконечную радость. Он облек в слова то, о чем мы втайне мечтали. Мы оба подверглись чудесному воздействию Гурджиева, мы вместе прошли испытание болезнью моей жены. Я никогда не видел, чтобы хоть раз в чем-нибудь Элизабет искала для себя выгоду. Но никто из нас не смел и мечтать о том, что наши жизни будут связаны так тесно, как предполагал шейх.
Был уже вечер, когда мы ушли. Молча мы прошли через шумящий город. Прошло три года, прежде чем мы решились заговорить о том послании, которое он нам передал.
На Кипре мы неожиданно встретили Роднея Коллин-Смита с женой. Он находился в короткой поездке по Востоку, побуждаемый той же необходимостью, что и я: убедиться, что древняя традиционная мудрость не утеряна.
Через пятнадцать дней после того, как мы покинули Лондон, мы вновь были в Кумб Спрингс. Я принял два решения. Предложить совету Института построить новое большое здание в Кумб Спрингс и мне осенью прочитать в Лондоне цикл публичных лекций. Я понимал, что эти решения неизбежно означают дальнейшее расхождение с группами мадам де Зальцман, но надеялся, что отделение окажется временным, и мы вновь встретимся в более свободной ассоциации, достаточно гибкой и открытой для того, чтобы воспринимать новые веяния, прихода которых я ожидал в течение ближайших нескольких лет. Группу архитекторов под руководством Роберта Виффена восхитила перспектива строительства. Нужные деньги собрали мои ученики, причем вклады составляли от одного до двух тысяч фунтов. Казалось, в Кумб Спрингс вливается новая жизнь. Я обрадовался, узнав, что моя жена поправилась достаточно, чтобы понять, что мы решили. Ее силы таяли, и внешнее поведение было еще очень далеко от нормы, но связь с внутренним подлинным сознанием можно было установить все чаще и на более длительные периоды.
В июле я отправился в Италию, в Комо, где отдыхала мадам де Зальцман. Я от ее имени провел некоторые переговоры с родственниками Гурджиева, которые всячески затрудняли издание его работ. Я не очень в этом преуспел и чувствовал, что упустил возможность перекинуть мостик через пропасть, разделявшую нас. Я забыл предупреждения шейха Абдуллы, что буду преследоваться армянами, и, глядя на то волнение, которое я вызвал, решил в будущем ни с кем не связываться. В любом случае было ясно, что мадам де Зальцман не может и не будет разделять со мной ответственность за то, что я делаю в Кумб Спрингс.
В октябре 1955 года она приехала в Лондон и настояла на полном разделении нашей деятельности. С этого момента, в четвертый раз, ученикам ее групп запрещалось появляться в Кумб Спрингсе, а членам моих групп посещать занятия, проводимые под ее руководством. Когда она объявила свои требования, я сказал, что, надеюсь, такое разделение продлится не больше года. У меня было предчувствие, что осенью 1956 года произойдет некое решающее событие, и если мы к тому времени не объединимся, то окончательно разойдемся в разные стороны.
Наступила и прошла зима 1955. К моей радости, 23 марта 1956 года моя жена смогла спуститься вниз и присоединиться к праздничному ужину в честь ее восемьдесят первого дня рождения. Вскоре ее состояние вновь ухудшилось, и летом мы пережили много мучительных дней. День ее рождения мы отметили началом работы над большим залом. Тогда на земле лежал снег. Дни шли, и постепенно нас окружили крокусы, бледно-желтые нарциссы и колокольчики. Команда сложилась сама по себе. Кроме англичан, в Кумб жили американцы, канадцы, австралийцы, южноафриканцы и норвежец. Если нам был нужен какой-нибудь специалист, он вдруг появлялся.
Работа группы архитекторов была поистине необычной. Двенадцать-пятнадцать человек с резко отличающимися вкусами и взглядами на архитектуру трудились вместе без какой-либо надежды на вознаграждение. Каждая деталь выносилась на всеобщее обсуждение. Иногда это означало недельные, а то и месячные задержки в строительстве. Я принимал в этом некоторое участие, но мы все понимали, что один человек ничего не может сделать. Казалось, у постройки были собственные цель и план, и мы могли только ждать, пока нам откроется их очередная часть.
Первый том “Драматической Вселенной” вышел в мае с подзаголовком “Основы естественной философии.” Кроме удивительно доброжелательного отзыва в “The Times Literature Supplement” [ Литературное приложение к Times”], книгу либо проигнорировали, либо ругали. Обозреватель “Nature” писал о ней, как о грозном предупреждении всем ученым против
фантастических спекуляций. Ни разу ни этот обозреватель, ни немногочисленные читатели, писавшие мне письма, не упомянули о шестимерной геометрии, пока, наконец, два года спустя, американский астроном Густав Стромберг не дал ей высокой оценки в нескольких своих статьях. Я хорошо видел недостатки книги, особенно ненужные трудности, которые доставляют читателю многочисленные неологизмы. Слово гипарксис, которым я обозначал шестое измерение, обеспечивающее свободу воли, вызвало недоумение и ввело читателей в заблуждение. И все же я не мог написать иначе. Книга содержит столько всего, что для современного образа мыслей она и нова, и противоречива, поэтому я не ожидал одобрения ученых и философов. Стиль подачи материала также делает ее неприемлемой для большинства читателей.
Признаюсь откровенно, в основном меня заботило, чтобы мои издатели не потеряли на этом деньги. Четырнадцатилетняя работа над книгой была неотъемлемой частью моего образования. Если видение в 1920 году было истинным, неизбежным становилась и реальность пятого и шестого измерений. Многие опыты, описанные в этой книге, подтвердили и расширили мое изначальное представление. Если они верны, то вскоре и наука совершит то же открытие. Неважно, доживу я до этого, или нет.
Я полагал – и дальнейшие события укрепили мою уверенность, – что существует Великая Мудрость, и время от времени мы получаем доступ к ней. Даже если мы и не осознаем этого, Великая Мудрость влияет на человеческие дела. Предположим, что Великая Мудрость приоткрыла мне некоторые до сей поры неизвестные человечеству тайны, тем более имело смысл поведать их людям. Если же вся книга была не более чем сборник научно-фантастических изысканий, как писал рецензент в «Nature», она была слишком хороша, чтобы просто так кануть в Лету.
Я стоял перед проблемой издания второго тома под названием «Основания моральной философии». Как бы низко я ни оценивал свою работу, у меня была задача. Я взялся за книгу, которая должна была вместить в себя весь человеческий опыт, и стремился показать, что за разнообразием и хаосом нашего чувственного восприятия скрыта великая гармония. Я несколько раз переписывал второй том и все же был не удовлетворен результатом. Я сделал большой упор на идеи Гурджиева и не добился синтеза, который мог бы назвать собственным. Я решил заново переписать весь второй том в свете моего личного убеждения в том, что разнообразие ценностей и обязанностей происходит от различия между системами, состоящими из одного, двух, трех, четырех, пяти и так далее независимых элементов. Эта идея, хотя и содержалась в учении Гурджиева, но занимала там слишком мало места. В основном он уделял внимание возможностям трех- и семичленных систем. Я считал это искусственным и относил за счет традиционных верований, касающихся священности чисел 3 и 7. Я упорно пытался провести ревизию книги, но мало в этом преуспел. Внутренне я очень беспокоился, словно бы упустил нечто жизненно важное.
Работа с группами в Кумб Спрингс подтверждала это чувство. С новыми группами все было в порядке, но группы, организованные до 1950 года, переживали кризис. Строительство нового здания направляло наши усилия, но пожилые люди не могли принимать в этом участие и были предоставлены размышлениям о собственной несостоятельности. Я понимал, что ситуация в целом отражается и на моем состоянии. Я занял положение учителя, или лидера. Но я мог дать только то, что имел, а этого было крайне мало. Все, что говорил дервиш-одиночка Ахмад Табризи о недостатках отношений учитель-ученик, всплывало в моей памяти. До определенного момента они приносят восхитительные результаты, но рано или поздно упираются в границу, через которую один человек не может перевести другого.
Пока я раздумывал над этими проблемами, на духовном горизонте появилось облачко размером не более’ладони. Как-то в начале лета я получил письмо из Японии, в котором рассказывалось о новом духовном движении, идущем с Явы, и, похоже, во многом совпадающем с идеями и методами Гурджиева. Я слышал, что представитель этого движения на Кипре собирается приехать в Англию. Описание, данное моим респондентом, не сильно заинтересовало меня, но я чувствовал себя обязанным узнать о нем больше.
Одной из причин, по которой я не отправился тут же на Кипр и не выяснил все сам, был мой странный проект взобраться на Монблан. Я не привык к атлетическим упражнениям, хотя некоторый альпинистский опыт приобрел во время поездки к Сноуденсам и на Озера. Я не особо уверенно чувствовал себя в горах и испытывал некоторый страх. Я считал глупым ради развлечения подвергать кого бы то ни было опасности, но все же хотел попытаться. Я попросил Элизабет отправиться со мной. Она без колебаний согласилась и, казалось, ждала этого предложения, хотя боялась высоты и из-за долгой болезни в детстве не привыкла к физическим усилиям. Молодой француз, Жиль Жоссеран, юношей проживший с нами в Кумб Спрингс весь 1951 год, с тех пор стал альпинистом-проводником. Я написал ему, и он вызвался проводить нас, но предупредил, чтобы мы серьезно потренировались. Эти мы и занимались весной и летом.
Из-за семинаров в Кумб мы должны были совершить восхождение в начале сезона, когда снег еще не лег окончательно. Кроме того, у нас было всего два дня, потому что Жиль преподавал в школе проводников в Чамониксе и был свободен только по выходным. Погода стояла неустойчивая. Однако все складывалось так, словно небеса решили привести нас к вершине. Для того, чтобы привыкнуть к высоте, Жиль порекомендовал нам провести несколько дней на высоте 12 тысяч футов над уровнем моря, для чего мы отправились в Рефьюдж дю Тете Русс, ниже Агьюл дю Роше. Каждый день мы тренировались, прогуливаясь в полном снаряжении. Сезон только начался, и нам встретилось лишь два альпиниста. Нас сопровождали только горные вороны, кравшие пищу, которую мы клали на снег.
Только вернувшись, мы осознали причины, толкнувшие нас на эту затею. Три раза мы подвергались серьезной опасности. Нам пришлось пройти по рыхлому снегу в Агьюл дю Роше, и буквально через несколько мгновений после этого по нашим следам прошла лавина. Вскоре группа альпинистов впереди нас сдвинула обломок скалы, и мы едва избежали участи быть раздавленными. На спуске нас застиг страшный ураган, в котором погибли два итальянских альпиниста. Мы не сразу поняли, о чем говорят электрические разряды, исходящие от наших ледорубов, и едва избежали удара молнии.
Четверть часа в лучах сияющего солнца на вершине – награда, достаточная сама по себе, но значение опыта в целом я осознал после возвращения в Чамоникс, полуослепший от снега (темные очки я потерял на подъеме). Все тело болело, лежа на кровати, я спрашивал себя: не была ли вся затея бессмысленной бравадой. Пришедший ответ говорил о том, что было необходимо отдать себя на милость сил природы, чтобы, хотя бы на мгновение, осознать ничтожность человека перед лицом безразличной и хмурой Вселенной.
По возвращении в Лондон мы приняли участие в семинарах в Кумб Спрингс. Было положено хорошее начало в сооружении нового здания, но, чтобы завершить его к следующему июню, как мы хотели, требовалось огромное напряжение всех наших сил. Около трехсот человек собрались на недельную работу в Кумб. Это был грандиозный пример совместных усилий.
Некоторые из нас чувствовали и говорили, что в постройке есть жизнь и что она следует собственной конструкции. Она сообщила о своей форме умам архитекторов и привлекла требуемых специалистов. Моя роль по отношению к ней была выполнена. Она завершится сама и в свое время.
Глава 25
Опыт Субуда
Слухи о Субуде доходили до меня с 1955 года, но мне не приходило в голову связывать их с пророчествами, полученными во время моих путешествий. Человек, стоящий за этими слухами, Мохаммед Субух, оставался смутной фигурой до лета 1956. Я лично заинтересовался Субудом благодаря Ромимунду фон Блиссингу, у которого я останавливался на Кипре годом раньше. Приехав в Англию, он рассказал, что познакомился с посланником Мохаммеда Субуха, Хусейном Рофе, евреем, принявшим ислам. Он добавил, что понять Субуд нельзя без его духовной практики, называемой латиханом. Совсем недавно он прошел инициацию, и самые первые результаты были столь ошеломляющими, что, казалось, Субуд может решить все наши духовные проблемы.
В то время я безуспешно пытался пересмотреть «Драматическую Вселенную» и не хотел, чтобы меня отрывали. Однако я согласился навестить Рофе, когда он снимал квартиру в северной части Лондона. Он поразил меня свой необычайной образованностью и начитанностью, но его взгляды показались мне чересчур необычными. Он говорил о Субуде в виде восточных «историй с продолжением.” Мне не казалось поучительным выслушивать истории о бесчисленных исцелениях умирающих, о стариках, к которым возвращалась молодость, и они вновь женились, о бизнесменах, заключавших умопомрачительные контракты, о политиках, обошедших всех своих сильнейших соперников. Для меня рассказы о чудесах – полетах на астральном самолете, сбывшихся предсказаниях или психических феноменах, знакомых любителям оккультизма, – звучали проклятием. Казалось, Рофе не понимал, что его истории настраивают меня против Субуда как движения и против него как человека. Более того, вера в то, что материальное благополучие является наградой за почитание Бога, было типичным мусульманским подходом, с которым я не мог и прежде согласиться, беседуя с Эмином Чикхоу. Суровая правда жизни несовместима с убеждением, что к праведному человеку не приходит ничего, кроме хорошего. Эта вера при ее логическом развитии может привести к абсурдному заключению, что, будучи Праведником, Иисус принципиально не мог умереть на кресте. В сентябре я узнал, что двое или трое моих старых друзей интересуются Субудом. Двое из них были теми, кого я встретил у мадам Успенской в 1948 году и которые потом вернулись к Гурджиеву, а после его смерти некоторое время работали в группах мадам де Зальцман. Они пришли к заключению, что без Гурджиева во плоти его система теряет сущностный компонент. Они ожидали чего-то не только нового, но и радикально отличающегося от того, что мы знали до сих пор. Убежденные, что работа в группах, проводившаяся в Лондоне и где бы то ни было еще последователями Гурджиева и Успенского, была обречена на застой и выхолощенность, они устранились от всякого активного участия в их деятельности. Таким образом, они были свободны как внешне, так и внутренне.
Со мной дело обстояло иначе. Я не потерял веры в практическое значение идей и методов Гурджиева даже в его отсутствие. Я был более чем несвободен: четыреста учеников нуждались в моем руководстве, и для этого я должен был поддерживать жизнь в Кумб Спрингс. Я публично заявил о своей приверженности идеям Гурджиева. В предисловии к «Драматической Вселенной» я высказался о нем как о «гении, которого я без колебаний могу назвать сверхчеловеком». Даже когда моя рука выводила на бумаге эти слова, я сомневался в их уместности, а увидев их напечатанными, спросил себя, не будут ли они неправильно поняты. Теперь, по прошествии двух лет, я не хотел возвращаться к написанному. Если в этой жизни человек может стать сверхчеловеком, в чем я твердо уверен, Гурджиев был именно им. Более того, с течением времени, несомненно, его вклад в переориентацию человеческого понимания в соответствующее наступающей Эпохе, будет признаваться все шире и шире. Если Субуд несовместим с тем, что я привык считать космологией Гурджиева, то Субуд не для меня.
Мадам Успенская в письме приглашала меня во Франклин Фармс на длительное время, чтобы я мог там поработать над книгой. В Кумб Спрингс мне не было покоя. Ум моей жены опять помутился, и, если я был дома, она бродила из комнаты в комнату со своими сопровождающими и звала меня. Ее врач посоветовал мне на время уехать, надеясь, что так скорее пройдет ее беспокойство. В общем она была в хорошей форме, но постепенно теряла зрение из-за катаракты и гемианопсии, вызванной последним кровоизлиянием.
Я беспокоился не только за нее. В то время я взвалил на себя тяжкое бремя, состоявшее из постоянного потока людей, которые хотели получить мой совет касательно их личных проблем, и из десяти, а то и двадцати собраний групп в неделю. Писать в таких условиях не представлялось возможным. Я понимал, что слишком много на себя взял. Если не найдется никого, кто разделит со мной этот груз, цель Кумб Спрингс как духовного центра не будет достигнута.
Я обещал себе, что буду жить и работать в Кумб, пока жива моя жена. После ее смерти я останусь только в том случае, если работа не будет зависеть лично от меня. Я считал, что ни одно духовное движение в наши дни не может быть успешным, если основано на лидерстве одного человека. С помощью лидера можно с легкостью достичь результата, но он может уничтожить и лидера, и ведомых им людей. Я понимал, что в целом человечество еще не созрело для того, чтобы окончательно распрощаться с лидерством, но в своем узком кругу я хотел свести его к минимуму. Это возможно только при безграничном доверии членов общины друг другу, и мне казалось, что те из нас, кто работают и ищут вместе уже много лет, начинают достигать такого взаимного доверия, К сожалению, большим препятствием этому служил мой характер. Я слишком настойчив и поспешен для хорошего члена команды. Поэтому я менял направление от самого жесткого лидерства, то есть диктаторства, до полного отречения от ответственности. Окружающие терялись в догадках. Такие противоречия, вероятно, неизбежны в ходе постепенной трансформации нашей природы, но они вели к сумятице, которую тяжело переживали не только мои товарищи, но и я сам.
Размышляя таким образом, я сел на «Королеву Марию» и отплыл в Соединенные Штаты. Около шести недель я гостил в Мендхеме у мадам Успенской. Мне предоставили полное уединение и возможность работать. Я сам был поражен результатом. За пять недель я написал двенадцать очень трудных глав «Драматической Вселенной».
Во время моего пребывания отмечали седьмую годовщину смерти Гурджиева, 19 октября 1956 года, обычной службой в русском соборе. В этот день мадам Успенская заговорила со мной о Субуде, получив воодушевленный отзыв о нем от Рони Биссинг. Она поинтересовалась моим мнением, я ответил, что никак не могу определиться. Я рассказал ей о том, что говорил Гурджиев о голландской Индии и что я ломаю голову, не есть ли Мохаммед Субух тот самый человек, который должен прийти после него. Она заметила: «С тех пор, как ушел мистер Гурджиев, я все жду того, кто придет. Я все еще жду, но его все нет: возможно, при жизни я его не увижу. « Она задала мне еще несколько вопросов, а потом спросила: «Если придет новый учитель, как Вы узнаете его?» Я ответил, что он принесет что-то совсем новое, и мы узнаем это, потому что подготовлены Гурджиевым. Она явно не была полностью согласна со мной, но не высказала свох мыслей.
Будучи в Америке, я немного сталкивался с нью-йоркскими группами. Во Франклин Фармс ко мне относились с неизменной добротой. В Нью-Йорке все было иначе. Группы последователей Гурджиева оказались холодными и подозрительными. Один из их членов сказал мне, что я их разочаровал, так как предал мадам де Зальцман. Я очень хорошо понимал, как тяжело приходилось ей, поддерживающей веру и мужество в сотнях приверженцев гурджиевских идей, но я не думал, что она поступает правильно, объявив себя единственным авторитетом. Тем не менее, я оказался бы крайне неблагодарным, если бы забыл, как много она сделала для Гурджиева и для всех нас. Только у нее хватило сил и мужества продолжать дело, которое он оставил. И потом, я думал, что здесь какое-то недоразумение и негативное отношение ко мне исходит не от нее. Позднее я узнал, что так оно и было, и, услышав о поведении своих учеников, она сделала все, чтобы восстановить справедливость, но к тому времени я уже был в Англии.
Только мадам Успенская без одобрения или порицания, не принимая ничьей стороны, руководствовалась одной целью – способствовать единству, не нарушая основных принципов Работы. Из всех замечательных людей, которых я встречал в жизни, мадам Успенская стоит особняком благодаря неуклонному следованию своей цели. Ее самодисциплина вдохновляла всех, кто ее знал. Она никогда не бралась за то, что было за пределами ее сил или понимания. Говоря со мной о приходе другого учителя, о себе она отозвалась так: «Мадам не учитель. Она – нянька, готовящая детей к школе». Она никогда не говорила о себе «я», а только в третьем лице: «мадам» или даже «она».
Вернувшись домой в середине ноября, я нашел мою жену значительно поправившейся. Нам повезло найти ночную сиделку, которую она любила и которой доверяла. Жена прозвала ее «малышка Нэн» и всегда спала спокойно, зная, что малышка Нэн была рядом с ней. Следить за ней днем было непросто, потому что обученные сиделки не понимали, отчего мы не даем ей успокаивающие средства. Основные тяготы ложились на Эдит Вичманн, но многие из жителей Кумба проводили с ней несколько часов в день, так как ее нельзя было ни на минуту оставлять одну. Я не мог уделять ей много времени, но, как правило, кормил ее завтраком. Часы раннего утра, которые мы проводил вместе, всегда были счастливыми, и иногда ее ум просветлялся, и она говорила со мной с глубинным внутренним пониманием о прошлом и будущем или о жизни и смерти. Наши беседы не всегда были серьезными, в светлые моменты она любила вспоминать совместные путешествия и строить планы, в основном фантастические, на будущее. Даже в ее фантазиях нам открывался важный символизм, словно бы она говорила о реальности, которую могла воспринять только ее бессознательная личность.
В Лондоне было столько работы, что я вновь забросил книгу. Я болезненно это переживал, так как пришел к некоторым глубинным заключениям о Боге, Человеке и Вселенной, которые хотел высказать. Мой внутренний опыт и попытки универсального синтеза привели меня к выводу, что Бог – это Высшая Воля, проявляющаяся в Согласующей Силе, гармонизирующей во всем и вся утверждение и отрицание. Антропоморфные изображения Бога, по моему мнению, на современной стадии развития человека, больше не нужны. С другой стороны, понятие Духа приобрело глубокое и чудесное значение. Мне представляется, что Гегель и его Geist, как прогрессивный принцип объединения Реальности, приблизился к доктрине Реализации Сущности, требующей пятичленной системы. Я видел бесконечные развертывающиеся системы, еще более сложные, чем раньше. В попытках описать то, что мне открывалось, я наталкивался на языковые ограничения. Я был вынужден описывать наиболее подлинную конкретную Реальность жалкими абстрактными терминами. Но, в конце концов, когда я писал, я хоть что-то мог выразить. В Кумб Спрингс я неделями не мог написать ни строчки.
Неудивительно, что я сказал себе: «В конце концов, я могу оставить Рофе и не заниматься Субудом, покуда не закончу книгу». Но тут, к моему изумлению, я услышал внутренний голос: «Напротив, ты должен продолжать».
Я отправился к Рофе и попросил его выполнить формальное открытие, или инициацию, которая устанавливает связь с Жизненной Силой, действующей в субудскомлатихане. Было 25 ноября 1956 года. Рофе объяснил, что контакт подобен электрическому току, который можно включать и выключать по собственной воле. Он сказал, что присутствие контакта проявляется дрожью или вибрацией. Он приземленно и формально попросил меня заявить о своей вере в Бога и предании себя Его Воле. Я не ощущал ничего, что могло бы сойти за вибрацию, в какой-то момент мысли остановились, и я вошел в состояние осознания, которого раньше достигал долгими направленными усилиями. Вскоре я совсем перестал думать, только осознавал, свободный от всякой ментальной активности, но полный жизни и блаженства. Не знаю, долго ли это продолжалось, так как я потерял ощущение времени. Я услышал слова Рофе: «Хватит. Можете остановиться», – и тут же вернулся в свое обычное состояние. Природа только что пережитого больше напоминала то, что писатели-мистики называют рассеянным созерцанием, чем самовоспоминание Гурджиева.
Я был потрясен. Рофе обрадованно сказал мне, что с первой нашей встречи знал, что я быстро распознаю уникальную природу Субуда. Он пригласил меня дважды в неделю на занятия латиханом вместе с остальными, которые прошли инициацию во время моего пребывания в Америке.
Я принял приглашение, но не рассказал никому об этом в Кумб. Многих бы это взбудоражило: некоторые захотели бы сами попробовать, а другие решили бы, что я потерял веру в Гурджиева и его методы. Мне нужно было время приобрести собственный опыт, чтобы я мог решиться рассказать о нем остальным.
Для меня латихан был совсем новым переживанием. В гурджиевских упражнениях результат достигается преднамеренным усилием воли. Здесь все спонтанно. Ни один латихан не похож на другой; каждый открывал нечто новое, но и старое представало в совершенно ином свете. Во многое из того, что я узнал от Гурджиева, латихан вдохнул жизнь.
Скоро я понял, как трудно оставаться полностью восприимчивым и не допускать никаких произвольных внешних движений, но когда я проникся тем, что от меня требовалось, моему внутреннему осознанию открылись новые глубины смысла.
В феврале после одного из наших упражнений Рофе заговорил с пятерыми из нас о возможном приезде Пака Субуха в Англию. Он сказал: «Его последователи на Яве говорили мне в 1950 году, что в еще в 1934 Пак Субух предвидел, что объедет весь мир, включая Европу, и что первой страной станет Англия. Он сообщил мне, что в Англии есть люди, чьи духовные качества позволят им воспринять Субуд, и что я должен встретиться с ними по приезде; думаю, он говорил о вас, и хотел бы узнать, согласны ли вы пригласить Пака Субуха в Ангию и взять на себя расходы».
На следующий день, за ланчем в отсутствие Рофе мы обменялись впечатлениями. Я был поражен, обнаружив, что все мы независимо пришли к выводу, что латихан пробуждает Совесть и что он действует быстрее и эффективнее, чем гурджиевские упражнения. Нас встревожила возможность того, что Субудом займутся бывшие ученики Гурджиева и Успенского. В то время мадам де Зальцман была в Нью-Йорке, и я ненадолго отправился туда, чтобы увидеться с ней и мадам Успенской и рассказать, что мы нашли. Меня вновь пригласили во Франклин Фрамс, где я почти каждый день виделся с мадам Успенской. Ее силы таяли, и ей было уже трудно говорить. Мадам де Зальцман, тогда очень загруженная делами в Нью-Йорке, несколько раз приезжала к нам. Обе дамы хотели с возможно большими подробностями узнать все о Субуде. Они согласились, что было правильныым пригласить Пака Субуха в Англию. Мадам де Зальцман хотела бы с ним встретиться, ведь только так она смогла бы составить свое представление о том, Учитель он или нет.
Двенадцатого марта я вернулся в Англию. Приглашение было послано и принято. Оставшееся время я решил использовать для завершения работы над «Драматической Вселенной». Надеяться написать хоть строчку в Лондоне было невозможно, поэтому я принял предложение Кристофера Вайнеса сдать мне коттедж, Кэ Крин, находящейся в крайней западной точке Ллейна, в Северном Уэльсе. Я отправился туда и, отложив все дела, занялся рукописью. Она была завершена за несколько дней до прибытия Пака Субуха в Англию 21 мая 1957 года.
В Северном Уэльсе я излечился от двух заболеваний, которые долго тянулись за мной по жизни. Первое – время от времени повторяющаяся дизентерия, которую я подхватил в Смирне; а второе – слабость легких из-за туберкулеза. О подобных излечениях сообщали многие люди, регулярно практиковавшие латихан, поэтому я стал более серьезно относится к «исцеляющему» аспекту Субуда.
Но еще важнее для меня было моральное обновление, случившееся со мной в апреле, через пять месяцев после открытия. Этот опыт был подлинно очищающим. Яркий внутренний свет безжалостно пролился на мое прошлое. Жизнь во всех подробностях предстала передо мной. Я вспомнил все: приятное и неприятное, в особенности то, о чем хотел бы позабыть. Например, я вспомнил все свои дела с экс-хедивом Аббасом Хилми-пашой и то, как оправдал свои весьма сомнительные действия. Я вспомнил все свои связи с женщинами, и все, что представлялось мне состраданием или желанием помочь, оказалось выходом для животных импульсов или необходимостью спрятать от самого себя глубинный страх перед ними. Непостоянство и нечестность в делах, бегство от неприятных ситуаций и, хуже всего, нечувствительность к переживанием других и упрямство – все это остро предстало передо мной в сотнях безжалостных эпизодов, преследующих меня, как злобные бесенята. Ночью я не мог уснуть из-за угрызений совести и отвращения к себе. Казалось, я сойду с ума или умру.
Странно, но внешне это едва ли отразилось на моей жизни, и никто не заметил моих мучений. Если мне не изменяет память, очищение длилось две недели.
В перерывах между работой над рукописью я изучал индонезийский язык и к приезду Пака Субуха смог, хотя и с трудом, прочесть его книгу Susila Budhi Dharma, копию которой, опубликованную в Индонезии на трех языках, одолжил мне Рофе.
Вернувшись в Лондон я узнал, что Пак Субух собирается привезти с собой не только свою жену, но и двух помощников, которые платили за себя сами. Где они остановятся? Рофе предложил Кумб Спрингс как очевидно самое удобное место. Это вызвало некоторую ревность, как если бы я хотел присвоить Субуд себе. Я предложил снять в Лондоне меблированный дом. Я не хотел по своим соображением пускать Пака Субуха и его спутников в Кумб. Для меня Субуд все еще оставался важным дополнением к тому, что я получил от Гурджиева, но своего места он еще не занял. Пока я не узнал о нем больше, я не хотел, чтобы меня связывали с Субудом.
Времени до приезда Пака Субуха оставалось все меньше, и я все сильнее беспокоился о той ответственности, которую брал на себя. Опыт очищения показал мне, что Субуд достаточно реален, но обладает и разрушительными силами. Что будет с людьми, невооруженными, как я, годами опыта и страданий? Как выбрать тех, кого привести к Паку Субуху? Другие считали мои предосторожности излишними. Они-то были свободны. Они могли рассказывать всем о Субуде, но на них не лежало бремя ответственности. Если я скажу своим ученикам, что практикую уже шесть месяцев, они, конечно, захотят сами попробовать.
Мне казалось, что лучше всего будет познакомить Пака Субуха только с несколькими избранными учениками, а другим пока объяснить, как я понимаю Субуд. Если мой план сработает, нужно было рассказывать как можно меньше и не дать Паку Субуху появиться в Кумб Спрингс. Неожиданное событие полностью изменило ситуацию. Киноактриса Ева Барток несколько лет была членом моей группы. Я был поражен ее искренностью, хотя из-за своей профессии она пропускала много занятий; как-то она позвонила из Голливуда, где снималась в очередном фильме, и сообщила, что очень больна и американские врачи считают неизбежной серьезную операцию. Ей нужен был мой совет, и она хотела приехать в Англию. Пока она говорила, я подумал, что ей предназначено вылечиться с помощью Субуда и что благодаря этому Субуд приобретет широчайшую известность. Я увидел, что вся моя жизнь будет взорвана, и Субуд поглотит меня. До этого я думал о Субуде как о чем-то личном, что изменит мою внутреннюю жизнь, но никак не коснется моей внешней деятельности.
Я пригласил Еву, сказав, что, если она приедет около 22 мая, я смогу предложить ей особый шанс поправить здоровье. Я знал, что жребий брошен, и я пускаюсь, возможно, в самое рискованное приключение.
Пак Субух прибыл вместе со своими спутниками. Небольшой группой мы отправились встречать его в аэропорт. Я узнал Пака Субуха сразу – он сидел на стуле, одинокий и спокойный, среди волнующихся пассажиров, у одного из которых были какие-то проблемы с иммиграционной полицией. Невольно я сравнил эту встречу с прибытием Гурджиева из Америки. У обоих была способность создавать вокруг себя особую среду, в которую не могло проникнуть ни одно чужеродное влияние. Оба отличались поразительной экономичностью в жестах и движениях, той полной неподвижностью, которая, по моему мнению, является одним из признаков освободившейся души. На этом сходство заканчивалось. В любом окружении Гурджиев был самой заметной и впечатляющей фигурой. Величественная бритая голова, свирепые усы и горящие глаза всегда привлекали к нему внимание. Пак Субух был сравнительно незаметным и, казалось, отводил внимание от себя, как будто в его планы входило остаться незамеченным. Когда он встал, я увидел, что он гораздо выше любого из знакомых мне индонезийцев. Я не мог определить, какой нации принадлежат его черты, больше напоминающие араба, чем индийца, и, хотя его кожа была коричневой, он не производил впечатление жителя тропиков.
В тот вечер те, кто приглашал его, познакомились с Паком Субухом в доме Рофе. Я спросил его, должны ли посвященные в Субуд прекратить работу по методу Гурджиева. Он ответил: «Нет. Ничего не меняйте. Бапак не учитель. Ваш учитель – Гурджиев, а с подлинным учителем вас ничто не может разлучить, даже его смерть. Но Бапак говорит вам, что если вы будете искренне практиковать латихан, то сможете по-другому понять учение Гурджиева». Он остановился, чтобы дать переводчику договорить и добавил: «Бапак говорит, что позже вы узнаете от своего учителя Гурджиева много такого, что никогда от него не слышали».
В тот момент от меня ускользнула важность сказанного. Я принял это за доказательство взаимной дополнительности Субуда и гурджиевской Системы, являющихся частями одного целого. Я пришел в восхищение и немедленно написал об этом мадам Успенской. Прошло немало времени, и я понял, что Пак Субух обычно говорит людям то, что они хотят услышать, слегка намекая на истинное значение, которое обычно полностью ускользает от собеседника. Только через два года я понял, что сказанное тогда Паком Субухом применимо только к той конкретной ситуации, а в другое время по тому же поводу он мог сказать совсем другое и даже противоположное. Я мог бы понять это раньше, так как я независимо пришел к выводу, что логическая последовательность и свобода от противоречий, столь далекие от того, чтобы быть критериями истины, на самом деле являются свидетельством ограниченности мышления. Их не стоит искать в провидениях вдохновленных пророков или в неуверенных, с запинками, словах святых.
Трудно описать состояние того огромного замешательства, которое охватило Кумб в июне 1957. Вместо двадцати проверенных и опытных учеников, мне пришлось пригласить всех, кто хотел прийти. Бапак настоял на отсутствии отбора и заверил, что нет необходимости в какой-либо подготовке, кроме тех вступительных бесед, которые я проводил у себя наверху, в то время как внизу, в большой столовой, происходило открытие. За один месяц более четырехсот мужчин и женщин, почти все мои ученики, получили контакт и начали практиковать латихан. Комната вмещала одновременно человек двадцать, поэтому за вечер мы выполняли семь или больше латиханов, начиная в семь вечера и заканчивая за полночь. Мы не смогли убедить Бапака и Ибу начинать раньше, так как они сказали, что лучше всего латихан получается вечером.
Субуд воздействовал резко и жестоко. Многие из пришедших ужасались или огорчались жалким состоянием человеческой личности, обнажаемой во время латихана. Многие из них ушли, присоединившись к другим группам, рассказывая страшные истории о том, что они видели и слышали. Иные впадали в экстаз и с трудом поддавались уговорам проводить латихан два или три раза в неделю, как велел Пак Субух. Мы наблюдали чудесные исцеления, слышали рассказы о мистических переживаниях, об исполнении предсказаний, сделанных Паком Субухом, и вместе с этим, ощущали безграничный поток энергии, увлекавший за собой всех в неизвестном направлении. При этом болезнь Евы Барток занимала внимание тех, кто пригласил ее в Кумб. После периода явного ухудшения, все изменилось. Двадцатого июня, после трех недель кризиса, ее состояние стало на глазах улучшаться. Две недели спустя стало ясно, что она беременна. Пак Субух предсказал, что она родит нормального и здорового ребенка. Так оно и случилось. Но настоящим чудом стали перемены во внутреннем состоянии Евы. Мы наблюдали смерть и возрождение ее души.
Потом Пак Субух сказал: «Мистер Б. очень силен. Бог подготовил его к несению очень тяжкого бремени, и в будущем ему придется еще тяжелее». Подобные заявления пугали меня. Я не только не чувствовал себя сильным, но и вся моя жизнь доказывала обратное. Я взваливал на себя множество тягот не потому, что был силен, но из-за собственного безрассудства. Время, проведенное с Гурджиевым, научило меня более или менее объективно относиться к себе, и хотя, как и всякий другой человек, я был чувствителен к похвале, но не руководствовался доверчиво- льстивыми оценками. Мне подумалось, что Пак Субух назвал меня сильным, чтобы поддержать во мне мужество идти вперед в тот момент, когда остальные пятились назад. Пак Субух навестил мою жену, и Йбу открыла ее, хотя та и не понимала, что говорится. В то время казалось, что конец ее жизни близок и ум ее никогда не прояснится.
Воздействие открытия и латихана, которым занималась с ней, в основном, мисс Эдит Вичман, было изумительным. Тем временем Пак Субух изменил имя Эдит на Маргарет, и с изменением имени произошли потрясающие перемены в ее характере. Изменилось и ее отношение к миссис Б., как все называли мою жену. Вместо эмоциональной вовлеченности она приобрела сострадание и понимание. Жена вновь стала общаться с нами, и некоторые из бесед с ней проливали свет на многие глубинные вещи. Огромным облегчением для всех нас было прекращение мучительных и ужасных состояний деменции. Вновь в сознание вернулась женщина, любящая своих близких, но по-новому: не с чувством обладания и властвования, а нежно. Моя благодарность Субуду за возвращение жены превосходит все остальное.
Время шло. Августовский семинар в том году не был похож на другие. В Кумб прибывали посетители из Америки, Южной Африки, Канады, Франции, Германии, Голландии и Норвегии. Все они были открыты. Субуд завоевывал известность.
Из Калифорнии мы получили неожиданное приглашение приехать. Я собирался поехать раньше и все подготовить. К моему удивлению, Пак Субух сказал, что Элизабет и двое ее сыновей поедут со мной. Он добавил: «После Калифорнии вы отправитесь на Яву». Я возразил, что это невозможно, хотя бы потому, что у нас не хватит денег на оплату дорожных расходов.
Однако нас ожидала череда удивительных событий. Мы пробыли два месяца в Калифорнии и собирались в Англию, но тут Бапака пригласили в Австралию. Вновь я вызвался провести всю подготовительную работу и предложил, чтобы Элизабет с сыновьями направлялись прямо в Англию. Два месяца переездов между Сан Франциско, Сакраменто, Лос Анджелесом и Кармелом, лекции, беседы, встречи, открытия, латихан с толпами народа или с больными и умирающими мужчинами и женщинами окончательно вымотали нас. Но Пак Субух настаивал: «Присутсвие Элизабет необходимо. Без детей она оставаться не может, они придают ей силы».
Мы летели в Австралию через Гонолулу и Фижи и увидели достаточно, чтобы понять, что на островах Тихого Океана сохранился особый мир традиций, мудрости и человечности, о котором я совсем ничего не знал. Уставшие, мы наконец прибыли в Сидней, мечтая отдохнуть один-два дня.
Еще до того, как мы прошли таможню, нас окружили журналисты. Я не имел понятия, что им говорить и почему они забросали меня вопросами о Паке Субухе, Еве Барток, обо мне самом, летающих тарелках и Бог весть еще о чем! Когда наконец мы добрались до нашего хозяина, доктора Филлипа Гровса, то узнали, что средства массовой информации вызвали такой интерес общественности, что я был вынужден провести пресс-конференцию с двадцатью журналистами, выступить на телевидении и в двух радиопередачах. Интервью дали даже сыновья Элизабет, и их фотографии появились в газетах.
Из аэропорта мы выбрались в 5 часов вечера и узнали, что в этот же вечер нас ожидают сорок мужчин и полсотни женщин, желавшие быть открытыми. И, в довершение всего, я должен был прочесть вступительную лекцию. Нас поселили в Мэнли Бич, в пятидесяти минутах езды от аэропорта, поэтому у нас едва хватило времени вымыться, переодеться и вернуться в город. Теософское общество предоставило нам для встреч Адхайр-холл.
Именно здесь пятьдесят лет назад Анни Безант и С. В. Ледбиттер провозгласили приближение воплощения Мессии в лице Кришнамурти. На пути в Сидней у меня не было ни секунды, чтобы успокоиться и привести в порядок мои взбудораженные чувства. Через сорок минут я вошел в зал, полный мужчин. Их было сорок или пятьдесят.
Стоя перед ними, я говорил себе: «Возможно, их нельзя открыть. Все это ошибка. Я не имею права стоять на этом месте».
Я произнес обычную формулу открытия, попросил их не открывать глаза, чтобы ни случилось, и вверил себя Богу. В этот самый момент зал заполнился ощущением Присутствия, и на меня сошло безграничное умиротворение, так что я перестал осознавать, что происходит с людьми передо мной.
Когда по прошествии десяти или пятнадцати минут я открыл глаза, мне предстало необычайное зрелище. Практически все присутствующие отвечали на латихан. То, что произошло здесь за четверть часа, в Англии случалось за месяц. Тут у меня окончательно исчезли всякие сомнения в том, что Сила, работающая в Субуде, не связана ни со мной, ни с любым другим человеком. Я больше не спрашивал себя, реальна ли она, то есть объективно ли Присутствие. Никто из собравшихся никогда не видел латихан, не слышал о тех реакциях, которые можно ожидать. Тем не менее, они отвечали так же, как англичане и голландцы, немцы и американцы.
Возвратившись поздно ночью в Мэнли, мы с Элизабет сравнили наши наблюдения. Она видела то же, что и я. Безграничное Присутствие накрыло ее, и она поняла, что это Присутствие и совершило открытие.
Мы отправились в Сингапур и на Цейлон. Основание центра Субуда в Коломбо было сопряжено со странной последовательностью событий, и я оказался тесно связанным с его ведущими членами. Они просили меня остаться с ними надолго. В то время действовал жесткий комендантский час, и только утихли общественные беспорядки. Едва ли можно было быть уверенным, что из пятидесяти буддистов, тамилов, мусульман и христиан никто не пострадает во время волнений. Я хотел остаться и помочь, чем смогу. Элизабет получила телеграмму от сестры, в которой та просила ее вернуться, и она немедленно уехала со своими сыновьями. Но она опоздала: ее мать умерла утром за день до того, как Элизабет вернулась домой. Я возвращался через Индию и Пакистан, где у меня были хорошие друзья.
Наконец я добрался в Англию. Жена ждала меня. Она очень ослабла физически, но внутренняя жизнь поддерживала ее, и она уверила меня, что с ней все хорошо. Маргарет Вичман рассказала мне, что жена впервые не испытывала того отчаяния, которое всегда охватывало ее во время моего отсутствия. В ответ я заметил, что частенько, взглянув на часы и увидев, что в Лондоне сейчас должно быть восемь утра, я чувствовал, будто нахожусь в комнате жены и кормлю ее завтраком. По словам Маргарет, это было реальное общение, так жена часто разговаривала, словно я был рядом, и всегда в это время была спокойна и счастлива.
Казалось, она ждала меня. Ее силы быстро таяли. Я проводил с ней много времени и днем, и ночью. Вдвоем мы были очень счастливы. Чужому человеку она показалась бы странной, но для близких людей она полностью и искренне была самой собой. Иногда мы вспоминали прошлое, и я радовался точности ее памяти. Она могла до мельчайших подробностей воспроизвести событие, о котором я совсем позабыл. Она жила моментом. Ощущение времени полностью покинуло ее. После моего пятимесячного отсутствия она встретила меня так, словно бы я только что вышел из комнаты. Бывало, я выходил минут на пять, а она говорила: «Я думала, ты никогда не вернешься». День за днем она становилась все более отрешенной и в то же время более любящей, наши отношения словно бы перемещались из времени в вечность. И действительно, так оно и было, но пока еще не до конца.
Двадцать четвертого июля в Кумб прибыла неожиданная гостья – Сабиха Эсен, в школе которой в Истамбуле Полли преподавала английский. Прошло тридцать девять лет, и, хотя некоторое время они переписывались, уже почти четверть века мы ничего не знали о Сабихе. Она рассказала мне, что несколько раз приезжала в Англию и хотела нас разыскать, но так и не смогла. Но в этот раз она проявила особую настойчивость. Среди ее приятелей нашелся человек, который не только хорошо нас знал, но и был частым гостем в Кумб Спрингс. Она узнала об этом вчера и времени не теряла.
Я быстро обрисовал ситуацию и предупредил, что миссис Беннетт может и не узнать ее. Однако мы сразу направились в спальню. Жена дремала, и Сабиха полушепотом заговорила с ней об Истамбуле, школе Безм-и-Алеми, их старой дружбе. Внезапно жена узнала ее, притянула к себе на кровать и залилась слезами радости. Сияя, она сказала Сабихе: «Я так рада, что ты пришла вовремя. Я скоро ухожу и долго не увижусь с тобой».
Около часа они провели вместе, беседуя о прошлом. Двадцатый год был поворотным для нас троих, и никакое другое событие не могло столь полно восстановить то, что объединяло наши жизни. На несколько дней Сабиха должна была уехать из Лондона, но обещала зайти сразу же по возвращении. Жена сказала: «Я вновь увидела тебя, и это все, о чем я беспокоилась».
Казалось, ночь придала ей сил, но, когда я пришел к ней в комнату в пять утра, маленькая Нэн шепнула, что конец близок. Маргарет сидела рядом с кроватью. Я взял ее руку и, как часто обещал ей, позвал ее. Ее веки дрогнули, и на губах показалась улыбка. Дыхание становилось все слабее и слабее. Руки уже были холодны.
Несколько раз я думал, что ее дыхание прекратилось, и вновь произносил ее имя, как обещал. Всякий раз возвращалось легкое дыхание. Наконец и оно исчезло. Долго мы сидели в полном молчании. Я позвал ее, и, к моей радости и удивлению, она вздохнула раз, другой и третий, и все. Она давала мне знать, что в сознании прошла через смерть.
Пока мы сидели рядом с ней, мы чувствовали ее присутствие в комнате и огромную радость. Она наконец освободилась от личных привязанностей и обрела объединение души, которое неподвластно смерти или действию любого другого существа. С того времени я никогда не чувствовал себя отделенным от нее.
Глава 26
Элизабет
Неослабевающее давление событий, навалившееся на меня со времени прихода Субуда, почти не оставило мне времени и желания писать. Я должен был вернуться к «Драматической Вселенной» и закончить работу, повисшую в воздухе после выхода в свет первого тома. Этот том представлялся мне едва ли более чем введением к глубоким открытиям, медленно зревшим во мне с момента первого видения на Ру де Пера в 1921 году. От признания необходимости перейти от дуализма к триаде мое осознание доросло до понимания важности каждой цифры как выражения качества, добавляемого ко всему смыслу существования. Книга, первый раз написанная мной в 1941 году, к 1956 переписывалась, по меньшей мере, восемь раз. Только я заканчивал очередной вариант, как обнаруживал, что написанное больше не отражает того, что я теперь понимаю.
Тогда, в 1956 году, передо мной наконец был завершенный труд. Больше я ничего не хотел прибавить, хотя и желал бы выразить все это лучше. Теперь, в августе 1958 года, я вновь принялся за дело. Я критически перечитал все написанное во Франклин-фармс и в Кае Крин – коттедже, где я скрылся от •всех перед приездом Бапака. Я ожидал найти глубокие расхождения между тем, что я написал тогда, и что понимал сейчас. Вне всяких сомнений, я сильно изменился. Совершенно четко я осознавал, по крайней мере, одно из таких изменений, а именно: сдвиг центра тяжести моего опыта из головы в сердце. Всю жизнь я подчинялся и руководствовался своим умом. Замечание князя Сабахеддина, обращенное к моей жене, тогда еще миссис Бьюмон, -«Notre enfant genial a le coeur glace» оставалось верным все эти годы. Субуд растопил мое замерзшее сердце, и оно уже никогда не вернулось в прежнее состояние. Поэтому, берясь за чтение, я боялся найти его неинтересным и даже вздорным. Я был настроен против моих старых исследований и теорий, против стремления жить абстракциями и игнорировать факты. Я задумал предать огню свои рукописи и не написать ни строчки, пока не смогу писать своим сердцем. Начав читать, я изумился. Книга совсем не походила не то, что я ожидал увидеть. Абстракций и теорий там, конечно, было предостаточно, но между ними и за ними стояло понимание, полностью совпадавшее с опытом Субуда. Второй том «Драматической Вселенной» совсем отличался от первого. Тот был ментальной конструкцией, берущей начало в прозрении. Этот, второй, содержал прозрение, встроенное и исходящее из ментальной конструкции. Книга показалась мне важной и стоящей публикации, хотя я понимал, что лишь немногие поймут ее.
С некоторым удивлением и потрясением я вдруг заметил, что начал доверять собственным суждениям. Я знал, что всю жизнь действовал самовольно, едва ли обращая внимание на мнения других, но, тем не менее, никогда себе не доверяя. Я слушал Успенского и Гурджиева, свою жену, и каждого, кто последним высказывал свое мнение. То, что я делал, всегда раздражало моих друзей именно потому, что было постоянным лавированием между упрямством и недоверием к себе. Пак Субух сделал для меня то, что не смог сделать никто другой. Отказываясь стать пророком в моих глазах, он заставил меня подняться на ноги.
Я сказал: «Теперь я должен жениться на Элизабет». Когда я спросил ее согласия, она в ответ рассказала мне необычную историю. «Будучи ребенком, я часто видела вокруг себя людей. Ты знаешь, в детстве, примерно с восьми до восемнадцати лет, я много болела. Мои «приятели» обычно приходили и располагались вокруг моей постели. Я никогда не рассказывала о них членам своей семьи и откуда-то знала, что, когда в комнате находились реальные люди, я не должна подавать вида, что замечаю кого-то еще. Я действительно видела их, как вижу любого из вас. Став старше, где-то годам к пятнадцати, я перестала их видеть, но сохранила их в памяти как нечто необычное, но реальное». Пока она говорила, я вдруг вспомнил о военном времени, когда она служила в женских армейских частях наводчиком в команде истребителя. Она продолжала, рассказав, как встретилась со мной и, позднее, с Гурджиевым. Десять месяцев она провела в Париже рядом с Гурджиевым день за днем вплоть до его смерти. Это время оказало на нее глубочайшее воздействие, ничего подобного больше у нее в жизни не было.
Летом 1957 она вновь неожиданно встретилась с «приятельницей», подобной виденным ею в детстве. В то время она жила в Кумб Спрингс Лодж с двумя сыновьями. В первые дни ее жизни в Кумб одну комнату там занимала Ева Барток, и Элизабет была единственной женщиной, разделившей с Ибу и Исманой обязанности по ее обучению. Я отметил, что Пак Субух и Ибу относились к ней как к обладательнице особых духовных качеств. Когда я сказал об этом Элизабет, она возразила: «Ну, нет, какие там качества», – и продолжала свой рассказ.
«Пока Ева была в Лодже, однажды ночью я не могла уснуть, мучаясь осознанием собственной бесполезности и недостатка веры. Около пяти утра, проведя ночь без сна, я встала и пошла поработать в саду, пока дети спали. Пришло время возвращаться домой, я чувствовала себя умиротворенной и уставшей. Было тихое солнечное летнее утро. Подойдя к дому, я увидела стоящую в дверном проеме высокую женщину в голубом. Она держалась очень просто, расслабленно, руки покоились на груди. Я не могла ясно рассмотреть ее лица, но поняла, что не знакома с ней. Я подумала, что она была ранним посетителем, и почувствовала неловкость из-за того, что заставила ее ждать. Я двинулась вперед и попыталась заговорить с ней, но она не спеша прошла в дом. Последовав за ней в холл, я, однако, никого там не обнаружила. Только когда я осмотрела все комнаты, я поняла, что она не была во плоти. Пока я кормила детей завтраком и собирала их в школу, я видела ее еще несколько раз, как правило, она появлялась в дверях и никогда не поворачивалась ко мне спиной. Я не обращала на нее внимания, и, насколько я заметила, дети не видели ее. Около полудня, когда я была одна внизу, она вновь появилась, идя мне навстречу со стороны кухни. На этот раз я повернулась и пошла к ней, но она тут же исчезла. От нее исходило дружелюбие и никакой тревоги. Ее лица я так и не смогла разглядеть, но мне показалось, что она дружески мне улыбалась. Я увидела ее еще один раз, в сумерках, около половины девятого вечера. Она вновь застыла в дверях кухни со сложенными на груди руками, глядя на меня; я сделала вид, что не замечаю ее, а когда вновь обернулась, она уже исчезла. Больше я никогда ее не видела, но очень хорошо помню ее высокую фигуру и движения, но так и не могу припомнить ее лица. Я не придала этому особого значения; кроме того, все мы были так заняты, что едва ли могли наедине поговорить с Бапаком. Я рассказала ему обо всем лишь через месяц или полтора. Выслушав мой рассказ, он спросил: «Почему ты не рассказала Бапаку раньше?»
Ибу и Исмана, присутствовавшие при разговоре, и Бапак проявили необычную заинтересованность. Ибу спросила: «Как она была причесана?» Элизабет жестом показала форму прически, и Ибу кивнула, говоря: «Да, так оно и есть!» Бапак пояснил происходящее, сказав, что «Женщина в Голубом» была истинной женой мистера Беннетта. Она войдет в Элизабет, и их души объединятся. Когда придет время, мистер Беннетт женится на Элизабет, и она родит ему детей, которые станут истинными слугами Бога. На возражение Элизабет: «Но мистер Беннетт уже женат и объединен со своей женой», -Бапак заговорил об истинных взаимоотношениях мужчины и женщины. Он сказал, что взаимное дополнение мужской и женской природ может быть достигнуто более чем двумя душами. Работа, которую должен делать мистер Беннетт в мире, требует, чтобы рядом с ним был соратник, и Элизабет предназначена быть таким соратником.
Элизабет никому не рассказывала об этом разговоре, и только теперь сочла возможным сделать это. Мы давно знали, что наши земные судьбы и духовные устремления тесно связаны. Она закончила свой рассказ и ответила на некоторые мои вопросы о «Женщине в голубом», и тогда я сказал ей, что слова Бапака в точности совпадают с услышанным нами от шейха Абдуллы Дагестанского три года назад.
«Женщина в голубом» так и осталась загадкой, но я убедился, что в словах Бапака была доля истины, так как с появлением Субуда Элизабет изменилась сильней, чем кто-нибудь другой. Любой психолог мог бы поразиться такому изменению. Элизабет, которую я знал четырнадцать лет, никуда не исчезла, но она, несомненно, приобрела обогащенное качество. Ранее с трудом сходившаяся с людьми, она теперь обладала столь глубоким пониманием, что легко завоевывала их доверие, и самые разные люди, собравшиеся в Лодже, искали встречи с ней и спрашивали ее совета. Она сохранила свое острое чувство юмора, но без прежней язвительности. Это изменение отразилось и на ее детях, которые, вместо грубости и непослушания, приобрели воспитанность, самообладание и мудрость.
Здесь не помешает немного осознанности.
Я понял, что не только восхищаюсь ею, но и люблю совершенно необычным образом. Никогда меня не тянуло к семейной жизни. В самом деле, я не думал, что мне понравится сидеть рядом с женой, окруженным детьми. Я никогда не хотел иметь собственный дом. Будучи женат около сорока лет, я едва имел понятие о частной жизни. Я путешествовал, переезжал из дома в дом, а когда мы наконец осели в Кумб Спрингс, он стал не домом, а центром моей работы.
Сейчас же, к своему изумлению, я обнаружил, что в возрасте шестидесяти одного года меня привлекает образ жизни, к которому стремится мужчина, едва достигший совершеннолетия. Элизабет превосходно мне подходила, и не могу сказать, что было причиной, а что следствием: то ли моя любовь к ней сделала привлекательной семейную жизнь, то ли тяга к семейной жизни сблизила нас. Как бы там ни было, мы поженились 27 октября, за три дня до ее сорокалетия. Между ней и моей последней женой было 43 года разницы. Возможно, из-за этого я чувствовал себя помолодевшим, но мне кажется, что изменения были более глубокими. Я начинал понимать истинное значение гармонии. Долгое время я пребывал в уверенности, что ничто не может существовать в изоляции, и узы, соединяющие различные существа, значат больше, чем барьеры, их разъединяющие. Но убедиться в истинности предположения можно только на собственном опыте. Мне не нравился мой характеру меня огорчали мои действия, но я был в силах изменить их. Я боролся, многого достиг и узнал, но мой характер оставался все тем же. И только теперь я осознал, что где-то за пределами характера родилась новая личность. Полагаю, что лучше всего о нашем подлинном состоянии свидетельствует отношение к страху. Я всегда боялся, потому что не был самим собой. Мне кажется, что такой страх присущ всем людям, но глубоко спрятан от их полусонного сознания. Мы боимся, потому что не живем по-настоящему, и этот страх – страх показать нашу безжизненность самим себе и другим. «Но король-то голый», – вот приговор, который боится услышать император, живущий в каждом из нас, от непоседы-ребенка, также являющегося нашей частью.
Теперь наконец я пробудился и обнаружил, что уже не совсем гол. Долго я был всего лишь подобием человека, но сейчас за обманчивой внешностью уже можно было разглядеть настоящего человека, еще молодого и неопытного, но занимающего свое подлинное место. Именно поэтому для меня настало время быть мужем и отцом.
В «Драматической Вселенной» я описывал многочленные системы, и то, как прогрессивно углубляется гармония при переходе от двум к трем, от трех к четырем и т.д., независимым членам. Только теперь я начинал различать лады гармонии в собственном опыте. Мы с Элизабет скоро поняли, что разделяем единую человеческую душу. В то же время мы полностью оставались самими собой, разными мужчиной и женщиной настолько, насколько могут быть разными он и она.
На языке суфиев такое состояние мужчины и женщины называется Бейт-аль-Мухаррем, или Тайное Жилище. Пак Субух часто говорил о нем как о первом небе, которого может достичь душа человека. Мы находились под впечатлением его отношения к женитьбе как к наиболее священному состоянию в предназначении человека. Только женившись на Элизабет, я понял, что означает союз мужчины и женщины. Неким странным и чудесным образом та совершенная гармония, которую мы испытывали, никоим образом не отделяла меня от моей умершей жены. Напротив, я был убежден, что она разделяет вместе с нами Тайное Жилище. Мне стало ясно, что гармония мужчины и женщины, будучи диадичной, не ведет к отделенности или изоляции. По мере того, как росла близость между нами, нас все больше и больше тянуло друг к другу.
К этому времени интерес к Субуду распространился по всему миру. По меньшей мере в пятидесяти странах люди хотели получить контакт и увидеть Бапака собственными глазами. Стоимость поездок слишком возросла, чтобы мы в Англии могли оплатить их в одиночку. Единственной страной, которая могла сделать столько же, сколько и мы, были Соединенные Штаты.
Планы поездок вырисовывались. Вначале Пак Субух отправлялся в Сингапур, Гонг Конг и Японию, затем через Австралию и Новую Зеландию в Мексику, где мы должны были его встретить. Мы с Элизабет отплыли на «Королеве Елизавете» вместе с двумя хорошими друзьями, Пат Терри-Томас и Карлом Шаффером, причем обоим из них разными путями пришло свидетельство о подлинности Субуда. Пат была открыта в июне 1957 года. Посреди главенствующего тогда хаоса она пришла ко мне, чтобы рассказать о чем-то, название чему она не знала. По ошибке ее направили в гостиную, где Ибу открывала пятнадцать или более женщин. Она не услышала никаких объяснений, только: «Закрой глаза. Есть только один Бог. Делай то, что ты хочешь». Она осознала изменение внутреннего состояния, бывшее тем более убедительным, поскольку она ничего не знала о том, что происходит. С тех пор прошло два года. Она прошла через многие превратности латихана и дотигла того уровня, с которого невозможно было сомневаться в его пользе для нее самой и других людей.
В марте 1958 года я получил письмо из Афин от Карла Шаффера, который впал в депрессию. Он приехал пожить в Кумб, и в период между октябрем и февралем пережил длительный религиозный кризис. Я очень хорошо знал то чувство отвращения к себе, которое он испытывал. Он ощущал себя безвозвратно потерянным и отвергнутым Богом. Как это часто бывает в подобных случаях, его самобичевание не имело границ. Он был архигрешником, причиной всех страданий в мире, ответственным за вечное проклятие. Я взял на себя обязанность провести его через кризис. Почти каждый день, иногда по нескольку раз, и даже по ночам, он приходил в Лодж, где мы с Элизабет жили после женитьбы, и объявлял, что он проклят навсегда. Я читал ему отрывки из Толстого или Джона Баньяна, из «Темной ночи Души» Св. Иоанна Крестова и других, прошедших через подобные кризисы, убеждая его, что это очищающий опыт, а не проклятие. Он уходил успокоенный, для того, чтобы через несколько часов вернуться и объяснить мне, что я, конечно же, ошибаюсь и не знаю, как сильно он грешен.
В это время я испытывал счастье, которое мне редко выпадало в жизни. Элизабет, двое мальчиков и я жили в совершенном согласии. Наше понимание было таким, что снова и снова Элизабет высказывала мои мысли еще до того, как я открывал рот. Мы не могли поверить, что два человеческих существа могут быть столь счастливы. Можно представить себе, какое воздействие произвели на нас мучения Карла. В нашей памяти еще свежи были воспоминания о пережитых нами страданиях в Париже рядом с Гурджиевыми, горечь постепенных прозрений нашего несовершенства. Всеми силами мы старались помочь тому, кто еще пребывал в отчаянии, поэтому мы полюбили Карла как брата.
Когда мы отплыли в Америку, ему уже было гораздо лучше, но кризис еще не прошел. Я знал, что рискую, но был уверен, что все будет хорошо. Фактически, он выбрался из ночной тьмы на свет дня еще до того, как мы бросили якорь. В течение всего нашего пребывания в Америке он, как стена, сопротивлялся Субуду. После трех напряженных недель в Нью-Йорке с визитами в Вашингтон и Монреаль, где мы читали лекции и открывали людей день за днем, разделяя с ними все трудности, через которые им приходилось проходить, Элизабет, Пат и я девятого марта отправились в Мехико. Карл отправился во Флориду, где было много желающих войти в Субуд.
Поездка Субуха в Мехико была подготовлена Стеллой Кент, в прошлом – ученицей Мориса Николла, и мне мало что оставалось сделать, кроме чтения одной или двух лекций. Я не мог читать лекции по-испански, но знал достаточно, чтобы следить за точностью перевода. К прибытию Бапака 26 марта около пятидесяти мужчин и женщин были открыты. Лично я более всего был поражен тем, что произошло в Страстную пятницу. Я отправился выполнять латихан с человеком, глубоко расстроенным. Было ли то, что произошло впоследствии, благодаря его присутствию, или нет, не знаю. В середине латихана я вдруг осознал присутствие Иисуса на Кресте, и был поднят,. и вошел в Его тело и смотрел Его глазами на безумствовавшую или безразличную толпу внизу. Я чувствовал зловоние и укусы роящихся около Его тела мух. Я испытывал ужас и отвращение. Нигде не было благости, ни в чем. И я знал, что Иисус понимает это и еще бесконечно большее: человеческое безразличие, простирающееся на многие тысячи миль в пространстве и во времени. Но я чувствовал и безграничность любви, всепрощающей и всепонимающей. Я заметил, что поднял руки и ощутил себя распятым. Затем я погрузился в бессознательное состояние, все куда-то ушло, а потом из темноты возник сверкающий свет, становившийся все ярче и побеждающий мрак. В этом сиянии я осознал Другую Природу Христа, Священную Природу, незатронутую ничем существующим. Постепенно сияние поднималось надо мной выше и выше; наконец я остался позади. Я вновь стал самим собой, недоумевая, что все это могло означать.
Когда латихан закончился, я почувствовал себя полумертвым от слабости. Я не мог выносить присутствия других людей и ушел, и скрывался, покуда не вернулось мое обычное состояние. Пребывая в одиночестве, я осознал, что должен научиться жить реальностью христианских верований и принять, что в них есть тайна, которую человеческий ум не в состоянии постичь.
Во время нашего совместного пребывания в Мексике Пак Субух провел беседу с группой помощников, прояснившей одну из труднейших особенностей Субуда. Его спросили, почему он отрицает, что он лечит и то, что Субуд – способ лечения. В ответ он сказал: «В человеке дремлет много способностей, которые можно развить аскетическими практиками. К ним относится знание будущего, чтение мыслей и сила целительства. Когда человек развивает в себе эти способности собственными усилиями, он может применять их, когда захочет, как любые другие обычные умения ментального или физического порядка. В Субуде все происходит по-другому. Силы, приходящие к нам, исходят от Бога, и Бог может забрать их. Если Бапак и получил руководство и показывает другим людям путь, то это не потому, что Бапак многому научился или развил в себе некие сверхнормальные способности. Нет, просто Бапак полностью предал себя Воле Божьей. Если есть на то Божья Воля, чтобы кто-либо исцелился, это может быть сделано через Бапака, но сам он лечить не умеет. Поэтому Бапак не целитель; целитель только Бог. И Субуд не метод лечения, а способ предания своей воли Воле Бога. Задавая вопрос, Бапак получает ответ, только если на то есть Воля Божья, даже если предмет находится за пределами знания Бапака. Но если нет на то Воли Бога, Бапак беспомощен и сам ничего не может сделать. Вот в чем разница между саморазвитием и преданием себя Воле Божьей».
Я нашел это объяснение глубоко удовлетворительным. Впоследствии я всегда приводил его тем людям, которые считали Субуд чем-то вроде колдовства, посредством которого люди могут надеяться приобрести оккультные возможности. Это служит также ответом утверждению, что Пак Субух претендует на некую уникальность или обладание силами, не доступными обычному человеку.
В Нью-Йорке с Паком Субухом познакомились несколько интересных людей. Среди них были Олдос Хаксли и его жена-итальянка. Впервые я встретил Хаксли в тридцатых годах, когда он вместе с Джеральдом Нардом регулярно приходил на встречи Успенского, молчал и уходил прочь. Он записался в кандидаты в Субуд в Лос-Анжелесе и отправился в короткую поездку на восток.
Бапаку он задал три вопроса. «Кто Вы? Пророк или воплощение?» Бапак ответил, что ни то, ни другое. Он тот, кто показывает путь. Он открыл дверь, в которую может войти каждый, кто хочет. «Но, – сказал Олдос, – Вы не можете отречься от своего положения. Вы – основатель Субуда и духовный вождь. Могут ли Ваши последователи не зависеть от Вас?» «Нет, Бапак не вождь. Он не идет впереди. Сначала люди могут неправильно понять и решить, что Бапак будет руководить ими. Но позднее при искреннем практиковании латихана они поймут, что единственным их вождем и руководителем является Бог и что они не зависят от Бапака». «Если Вы и не вождь, то, по крайней мере, Вы -учитель. Ваши ученики в какой-то степени будут от Вас зависеть». «Нет; Субуд не учение, и там нет учителя. Бапак может объяснять, и только. С течением времени каждый приобретает собственное понимание и не нуждается в объяснениях». Олдус явно не был удовлетворен, но заметил: «Чудесно, если так оно и есть. Более всего этот мир нуждается в людях, способных на собственные суждения».
Затем Хаксли задал вопросы, касающиеся положения детей, говоря, что если у человечества есть надежда, то должно появиться новое поколение, неиспорченное образованием. В ответ Бапак долго говорил о том, что детям нельзя помочь непосредственно, но только через их родителей. Вновь я понял, что на Хаксли это произвело благоприятное впечатление, но он не был убежден. В тот же день Хаксли был открыт, и я убедился, что он действительно получил контакт. Печально было наблюдать, как безжалостное давление его обязанностей помешало регулярному выполнению латихана. Подвозя его до отеля, я сказал: «Кое-что может быть проверено только попыткой. Кроме собственного опыта,, ничто не может быть за или против духовных практик». Он согласился, но не обещал. Я больше ничего не говорил, опасаясь, что и без этого сказал слишком много.
В Мексике я получил письмо от отца Бесконда, монаха Бенедиктинского монастыря Св. Вондрилла во Франции. Отец Бесконд прочел мою книгу о Субуде и писал, что он и другие монахи его обители хотели бы встретиться с Паком Субухом. Понимая, что опыт Субуда невозможно передать словами, они хотели бы сами попробовать его на собственном опыте. Это письмо, догнавшее меня в Мексике, более других заинтересовало Пака Субуха. Он сказал, что поехать не сможет, но вместо него могу поехать я. Я отправился в монастырь в июне 1959 года и провел там около недели. Меня пригласили выступить перед несколькими монахами с рассказом о Субуде, слушатели засыпали меня вопросами, показывающими их искренний интерес. Оказалось, что некоторые заявления, сделанные мной в моей книге, несовместимы с католической точкой зрения. Я сослался на невежество и спешку, в которой писалась книга. В результате три святых отца попросили о контакте. Они дали понять, что их действия никоим образом не будут одобрены Магистратом Католической Церкви, который все еще не признал Субуд.
Разделять латихан с людьми, ищущими только Волю Господа и не обремененными материальными заботами, занимающими мирян, оказалось бесконечным счастьем. Во время пребывания в монастыре я второй раз в жизни испытал состояние осознания Любви Господа. Я слишком хорошо знал, что, веря в Бога и покоряясь Его Воле, я никогда не мог любить Бога. Я приписывал это своему стремлению быть свободным от антропоморфизма, то есть от представления Бога этаким суперменом. Казалось, что любить образ просто, и это, вне всякого сомнения, служило огромным облегчением для тех, кто не утруждал себя интеллектуальными изысками. Но я был убежден, что Бог – это Высшая Воля, находящаяся за пределами индивидуальности, даже в самой ее чистой и совершенной форме. Бог не был для меня Абсолютом философов или Брахмой из Веданты. Я всегда тщательно гнал прочь от себя малейшие намеки на приверженность пантеизму или монизму. Но, чтобы не впасть в примитивный антропоморфизм,, или общие религиозные верования, я должен был помнить, что Бог как чистая Воля – это Источник всякой Гармонии. Мне казалось невозможным любить Волю, которую я никогда не могу надеяться постичь.
Но вот случилось чудо. Я понял, что любовь к Богу не требует образа или мысли. Любить Бога – значит участвовать в Божественной Любви. Осознание было тонким и быстротечным. Оно было как луч надежды, а не достижение. Подлинная природа гармонии не активна и не пассивна, но является третьим состоянием, включающим такие различные качества,,, как Любовь, Свобода и Порядок, Примирение и Истина. Это третье состояние столь нетипично для современного образа мыслей, что в языках не найдется слов, чтобы его описать. Я распознал его в рассказах Пака Субуха о Рох Иллофи, или Духе Примирения. Китайцы называли его Дао, индусы – Саттва, греки – Гармонией, в Ветхом и Новом Завете оно зовется Святым Духом, а в Исламе – Зат Аллах, Священная Сущность Ислама. Всю жизнь я искал это Третье состояние. Необходимость понимания и опыта была корнем учения Гурджиева, и все упражнения выполнялись с целью его достижения. Основной темой моих исследований многие годы были качества, связанные с т ретьим Состоянием, и его различные сочетания с активным и пассивным состояниями.
Одной из главных тем моей «Драматической Вселенной» служит различие между Самостью и Индивидуальностью. На своем опыте я убедился, что две самости могут быть соединены с одной индивидуальностью. Под Индивидуальностью я понимаю единую неразделенную волю, независимую от времени и пространства. Я распознал свою Индивидуальность в мигании глаза в вагоне-ресторане по пути в Париж. Вновь я столкнулся с ней, переживая дни очищающего страдания в 1957, внешне оставаясь тем же. Она поддерживала связь с моей женой после ее смерти. Теперь я осознал, что моя Индивидуальность получила свой собственный канал, в котором мы с Элизабет могли вечно жить как одно целое. Но, что удивительно, это единение не означало исключение. Моя Полли тоже была там, туда могли войти и другие. Там была не моя воля, и одновременно моя воля. Те, кто знаком с подчинением Самости Индивидуальности, поймут, что я имею в виду.
Две с половиной тысячи лет человечество придерживал ось того, что может быть названо «атомарной» теорией личности. Мы считали душу, или личность, если, конечно, верили в это, чем-то неделимым и статичным, точно так же, как ученые XIX столетия считали неделимым и стабильным атом. Субуд не только расщеплял психические атомы, но и восстанавливал их в более усложненном виде. Как величайший источник энергии пришел к человечеству из расщепления атомного ядра, так и мы обнаружили неисчерпаемые запасы Духовной энергии при «расщеплении» личности. Слова Христа: «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» приобрели конкретное значение, чего не происходило долгое время, пока две или три души считались отдельными атомами.
Латихан показывает в непосредственном опыте, что изоляция человеческих личностей проистекает не из присущего им атомизма, а потому, что закрыты двери восприятия, таким образом открывая путь новому понимаю предназначения человека. От психического и социального атомизма мы медленно движемся к подлинно человеческому обществу. Но этот процесс столь же болезнен, сколь и медленен, так как он обязывает нас отказаться от многих убеждений, основанных на положении об атомарности души человека, то есть ее неизменности и бессмертности, самодостаточности и подобии Богу. В будущем человечество будет жить ценностями и искать реальность, которые мы, по своей незрелости, можем ощущать, но не способны выразить.
Пак Субух занимал много моего времени. Он читал многочисленные лекции, которые я должен был переводить, в Вольфсбурге, в Мюнхене, Вене, Женеве, Ницце и, наконец, в Афинах. За это время я прошел через внутренний кризис, непохожий на прежние. Меня сотрясали противоречия. Я хотел, чтобы Кумб Спиригс был закрыт и продан. Я хотел уничтожить все, что написал. Пока все эти эмоции бушевали во мне, я продолжал действовать и даже думать как прежде. Казалось, будто смертельно раненное животное пряталось в глубинах моей души, но моя внешняя личность не была затронута его агонией. Я не мог разобраться в том, что происходит. Однажды, 4 января, я сидел рядом с Паком Субухом в самолете, летящем из Ниццы в Рим. Я рассказал ему о том, что со мной происходит. Он ответил: «Да. Бапак видит это. Внутри тебя действительно сидит раненый зверь». Он помолчал, придавая этим особую значимость своим словам. «Это слон. Он – последний из животных, который должен умереть в твоей душе. Но не надо бояться, так как душа Посланца Божьего уже с тобой, она будет направлять тебя и руководить тобой в будущем».
Эти слова пришли ко мне как откровение. Я ясно увидел в себе «слона», характер, требующий признания себя владыкой зверей, который ничего не забывает и в ярости не губит жизнь, а разрушает предметы. Когда мы прибыли в Афины, кризис миновал. Слон не умер, но, надеюсь, был укрощен. Похоже, я освободился от стремления взваливать на себя по надобности и без надобности разного рода обязательства, а также больше не зависел от «владыки зверей», черты, которую я всегда хотел искоренить.
В Афинах я больше, чем прежде, сблизился с Бапаком и его дочерью Роханавати. Она всегда обескураживала меня сочетанием крайней властности и несомненной восприимчивости и ясновидения. Она была матерью пятерых детей, с которыми мы виделись в Джакарте, и, по крайней мере, двое из них обладали сверхъестественной чувствительностью.
Однажды в Афинах мне пришлось везти на женский латихан Роанавати, так как Ибу слишком устала, чтобы пойти. Она заговорила со мной обо мне, радостно отметив великие изменения, произошедшие со мной со времени отъезда из Лондона: «Теперь я вижу, что мистер Беннетт все время чтит Бога». И добавила неожиданно: «Мистеру Беннетту очень вредно пить. Алкоголь сокращает жизнь. Но мистер Беннетт не должен умереть молодым, он нужен на земле. Поэтому будет лучше, если он перестанет пить».
Я почти не удивился этому, поскольку, начав практиковать латихан, все, включая меня, обнаружили, что не могут пить много вина, а от спирта вообще пришлось отказаться. Я привожу это в качестве примера тех советов, которые мы получали.
Вскоре по возвращении из Афин я вновь отправился в бенедектинский монастырь. Я решил настолько, насколько это возможно, принимать участие в жизни монахов. Заутреня начиналась в 5:20 утра, продолжаясь часа полтора и больше, а заканчивалось все вечерней службой в половине девятого вечера. Я чувствовал себя как дома. Благожелательность досточтимого святого отца аббата и доброта монахов стали настоящим сокровищем в моей жизни.
Открытые монахи искренне и регулярно практиковали латихан со времени моего последнего визита, и теперь я увидел изменения, которые он в них произвел. Интеллектуальная гипертрофия современного человека проникла и за стены монастыря. Даже монахи думают слишком много, закрывая себе путь, ведущий к глубинному тайному осознанию, в котором почитание Бога не нуждается в посредниках. Даже если рассматривать латихан как естественное упражнение для достижения «третьего состояния», приходится признать его огромную ценность для тех, кто призван к созерцательной жизни.
Один из святых отцов привлек мое внимание к аналогии между латиханом и рассеянным созерцанием в том виде, как его описывали великие испанские мистики, в особенности Св. Иоанн Крестовый. Поразительно, что раньше такое созерцание считалось плодом длительного воздержания и медитаций, в то время как с помощью Субуда его можно достичь в условиях обычной жизни. Три стадии мистического пути: Очищение, Просветление и Единение – стали для меня реальностью, хотя я сам испытывал только состояние Единения, и то на короткие мгновения.
За время пребывания в монастыре в латихане я испытал несколько просветлений. Однажды я услышал внутри меня голос, говоривший: «Предание себя Воле Бога – основа религии». Затем я осознал присутствие Иисуса и увидел его как Проявление Божественной Любви. В моей голове оказалась мысль: «Тогда христианство – единственно истинная религия». В тот же момент я понял, что произношу строки из Корана: «El hamd ul Illah Rabb-el-alemeen er Rahman er Ramin» – Слава Господу, Владыке обоих миров, Сострадающему, Милостивому.” Затем тот же голос продолжал: «Согласно моей Воле, Моя Церковь и Ислам объединятся». Я в замешательстве спросил: «Кто сможет выполнить такую задачу?» Ответ был: «Мария». Вскоре латихан закончился.
Происшедшее потрясло меня. Мог ли я придумать это? Я никогда не понимал роли Божьей Матери. Я читал историю церкви и знал, как величайшие ученые церкви, такие, как Фома Аквинский, устояли перед всеобщим требованием распространить культ теотоков. Ничто не было более чуждо моему образу мыслей, чем связь Божьей матери и движения, призванного соединить Христианство и Ислам.
Я рассказал преподобным отцам о своем переживании. Старший, наиболее святой человек, чья доброта растрогала меня до глубины души, сказал, что не видит ничего странного.в том, что Мария объединит всех, кто почитает господа чистым сердцем. С тех пор я осознал космическую значимость Присутствия Божьей Матери.
В последующий приезд я получил откровение, касающееся «Воли Господа». Годами я бился над проблемой: «Я не могу знать Волю Бога. Как же я могу ей покориться? Я даже не знаю, что от меня потребуется. Однажды, когда я выполнял латихан вместе с монахами, ко мне пришли слова из Второзакония: «Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И затем слова из Левита: «…но люби ближнего своего, как самого себя. Я Господь». Пока во мне звучали эти слова, я вспомнил, как они вновь повторились с появлением Христа и в Коране. Они были и есть Воля Господа для меня и для каждого из нас.
Все эти соображения собрались в моем сознании. Меня переполняла любовь. Любовь к Элизабет трансформировалась в любовь ко всему человечеству. Затем исчезло все личное и человеческое. Я осознал, что любовь Господа и моя любовь суть одно и то же. Я стоял, дрожа и глубоко дыша. Я больше не мог выносить любовь, которая текла через меня, и лег на землю. Лежа на земле, я внезапно понял, что мне было показано еще кое-что. В этом не было слов, так что мне придется привести собственную интерпретацию. Я должен был удовлетвориться знанием Воли Господа в общем. Я был не готов к частностям. Но позднее мне будет открыто больше, гораздо больше. Пока же я должен удовлетвориться этим.
Это всего-навсего слова; и они не в состоянии передать той уверенности в выполнении обещания, которую я испытывал. Если, со своей стороны, я смогу полюбить ближнего, меня примет Любовь Господа.
Глава 27
Служение и жертва
Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я закончил «Свидетеля». Теперь, на семьдесят седьмом году жизни, я могу с некоторой отрешенностью взглянуть на человека, который писал его. Я увидел свою жизнь, как цепь «решающих откровений», каждое из которых было шагом вперед, но одновременно и ложной вершиной, с которой открывались новые пики. Много лет назад в момент прозрения я сказал Элизабет: «Любого простофилю я принимаю за Архангела Гавриила». Я видел скорее то, что хотел, чем то, что было на самом деле, убеждая себя, что вот это как раз и есть настоящая реальность. Пятьдесят лет назад Успенский сравнивал меня с героем одной китайской сказки, который настойчиво хотел жить на кладбище, так как верил, что мертвецы живы.
Результатом одного из тонких проникновений Гурджиева в человеческую природу стала его доктрина о «главной черте». У каждого из нас есть центральный признак, который окрашивает все наши реакции на мир. Это наше слепое пятно, и, хотя мы можем распознавать его проявления, мы не видим, откуда они исходят. Управляя нами механически или бессознательно, эта черта остается нашей основной слабостью, но, если нам удается отделиться и отнестись к ее деятельности критически, она становится нашим ценнейшим качеством. Не так давно я изучал проявление главной черты у более ста студентов и убедился, что она может быть опорным моментом в понимании некоторых необычных свойств человеческой психики.
Оглядываясь назад, в 1961 год, я вижу, как настаивал на том, что Пак Субух был «Архангелом Гавриилом», хотя уже давно мог бы понять, что Субуд гораздо более ограничен в своих возможностях, чем хотел казаться. Я сам не мог отделаться от мысли, что теряю свои позиции. В Кумб Спрингс дела шли плохо. Я устранился от его руководства и передал его другим с целью полностью посвятить себя написанию заключительного тома «Драматической Вселенной». Я не был вовлечен в работу в Кумб Спрингс, но и не был свободен от нее. Постоянные раздоры, финансовые трудности, наплыв гостей со всего мира- все это занимало слишком много времени и отрывало меня от спокойной работы над книгой. Осенью I960 года я осознал, что прекратил работу над собой и переложил на латихан то, чего должен был добиваться собственными усилиями. Не говоря никому ни слова, я вернулся к тому распорядку и упражнениям, которым научился от Гурджиева, и сразу же почувствовал себя лучше. Некоторые из моих старых друзей и учеников обратились ко мне, обеспокоенные подобными симптомами. Я предложил возобновить наши утренние упражнения, в особенности тренировку воли, требующую усилий и жертвы.
Поделившись наблюдениями, мы убедились, что латихан, великолепный способ открытия сердца, никак не действует на волю, поэтому необходимо восстановить нарушенное равновесие. Пару месяцев мы работали группой в сорок-пятьдесят человек так же, как и до появления Субуда. Это дошло до Субудского Братсва в Лондоне; многие были поражены и разочарованы. Паку Субуху полетели письма, в которых говорилось, что я нарушил все правила Субуда. Проводились многочисленные тестирования, подтвердившие, что я потерял свой путь и даже подпал под «влияние Сатаны». Как это уже неоднократно случалось в моей жизни, события были неправильно истолкованы, слухи ширились, пока наконец Пак Субух в Индонезии не убедился, что я объявил себя голосом Субуда на Западе и не признаю его авторитета. Как и прежде, я был отрезан от старых друзей и предоставлен самому себе выяснять, впал ли я в заблуждение или пробудился к новому пониманию.
Несомненно, латихан подарил много чудесного мне и Элизабет. Многие другие люди на моих глазах изменялись к лучшему. Мы стали свободнее, более открытыми и обрели надежду, которой не было до появления Субуда. Я ясно осознавал вред, принесенный ненужным пессимизмом и ограничениями гурджиевских групп. Я больше не мог поверить в пессимистическое кредо, сформулированное Ф. X. Брэдли в предисловии к «Видимости и Реальности» [“Appearance and Reality”]: «Когда все прогнило насквозь, человеку остается только смердеть как тухлая рыба». Я не был согласен и с многочисленными толкователями Гурджиева, по мнению которых, в духе Брэдли, оптимист мог бы сказать: «Это лучший из миров и все в нем – необходимое зло».
Несомненно, я изменился: я мог общаться с источником мудрости вне меня и за пределами моего сознания. По жестокому замыслу Рока я должен был быть отвергнут всеми, кто много для меня сделал. Для меня было ясно, как день, что «тестирования», устраиваемые субудовскими группами в Лондоне и во всем мире, были в значительной степени самообманом и принятием желаемого за действительное. Я наблюдал развитие «Оксфордской группы» под руководством доктора Бачманна, позднее нравоучительно вещавшего об опасностях, окружавших и подстерегавших веру в «руководящий внутренний голос». Я находился в нелепейшем положении, отрицая в других то, к чему привык прислушиваться в себе. Убежденный, что могу общаться со своим сознанием, я тем не менее сомневался в способности других получать послания и указания свыше.
Много месяцев я с напряжением искал разрешения этого противоречия. Подвергая себя намеренному «тестированию», то есть пассивно отдаваясь латихану и задавая особые вопросы, я либо вовсе не получал ответа, либо приходивший ответ был сомнительным. Но, позволив хотя бы легчайшему намеку на желаемый ответ пробраться в мой вопрос, я туг же получал ответ столь туманный и неконкретный, что впасть в самообман становилось проще простого. С другой стороны, не задавая вопросов, а молясь о руководстве, указание, что должно делать, приходило неожиданно и непредсказуемо без латихана, как правило, тогда, когда я и не думал об этом. Эти указания были четкими и часто отличались от моих желаний, так что я не мог сомневаться в их истинности. Постепенно я сформулировал следующие критерии для различения указаний «внутреннего голоса»:
1. Они не должны противоречить здравому смыслу.
2. Они должны быть потрясающими или, по крайней мере, неожиданными.
3. О них не следует просить, кроме как в очень общем виде «просьбы о помощи».
Я также понял, что, принимая руководство со стороны Сознания всерьез, нужно быть готовым следовать ему, куда бы оно ни вело. Оно звучало не как повеление, но как спокойный негромкий голос, который легко смолкал. Он не требовал и не жаловался, но, доверяясь ему, мы вскоре получали его доверие, и он становился все более и более явным в нашем ментальном осознании.
В январе 1961 года произошел показательный случай. Однажды, сидя в Джамихунатре и выполняя утренние упражнения с группой в 15-20 человек, тогда постоянно живших в доме, я услышал голос Шивапури-баба, велевший мне «приходить поскорее, а то будет слишком поздно». Я никогда не видел его и ничего о нем не слышал особенного уже двадцать лет, с тех пор как впервые узнал о нем от профессора Ратнасурия, цейяонского буддиста, ставшего позднее преданным учеником Успенского. Профессор внезапно умер, а его вдова, Ваджира, около года жила с нами в Кумб Спрингс. Я знал, что Шивапури-баба был великим мудрецом около 130 лет от роду, жившим в горах Шиварупи у подножья Гималаев в Непале. От другого ученика Успенского, Хью Рипмана, я слышал, что Шивапури-баба живет в Непале, невдалеке от Катманду, и доступен для приезжих, но никогда серьезно не думал, что могу поехать к нему или хотя бы захотеть увидеться с ним. Таким образом, «приглашение» было и неожиданным, и нежеланным. Пораздумав, я понял, что оно имеет смысл. Я нуждался в совете человека, одновременно мудрого и невовлеченного, а Шивапури-баба был как раз таким человеком.
Путешествие стало возможным благодаря нескольким неправдоподобным совпадениям, и во время пасхальных праздников 1961 года мы с Элизабет и близким другом Патом Терри-Томас отправились в Катманду. Я рассказал об этой поездке и о втором своем визите, состоявшемся в 1962 году, в книге «Длительное паломничество» [“Long Pilgrimage”]. Сам Шиварупи-баба предложил, чтобы я написал о его учении, а его главный последователь Такур Лал Менандхар предоставил в наше распоряжение свои собственные записи. Я понял, насколько эта задача была для меня необходима, поскольку мой ум вновь открылся к Индийской духовности, которой я пренебрегал почти что сорок лет со времен изучения санскрита с доктором Канхере. Шивапури-баба
был универсалом. Он находился за различением учений и религий и достиг освобождения от условий личного существования, но при этом он оставался йогом и считал своей священной книгой Бхагават Гиту. Быть рядом с ним означало уверенность в возможности освобождения. Случайно во время моего второго приезда он подтвердил, что, хотя повиновение в субудском смысле необходимо, оно бесполезно без самодисциплины. В самом деле, все его учение о Правильной Жизни может быть сведено к тройной дисциплине тела, ума и духа. Несмотря на наше короткое общение, Шивапури-баба имел решающее влияние на мое развитие. Неожиданность и кратковременность защитили меня от моей постоянной привычки с головой окунаться в любую деятельность с кажущимся высоким потенциалом достижений.
Шивапури-баба заронил в мой ум убеждение, что мне предназначено «здесь и в этой жизни», как говорил Будда, достичь трансформации сущности, которую обещал мне в 1949 году Гурджиев: «Не останавливайтесь на Рае, ищите путь в Солнечный Абсолют». В первый раз это стало для меня больше, чем отдаленное предсказание.
Я возвращался домой через Турцию. Взобравшись на галерею Св. Софии, откуда в 1919 году я впервые наблюдал Ночь Силы, я увидел, как постепенно таяла моя тогдашняя уверенность. Одно за другим исчезали мои убеждения, и вновь и вновь я оказывался лицом к лицу со своим тайным миром. Мои повторяющиеся ошибки и заблуждения возникли перед моим внутренним взором, и я увидел жалкое сочетание слабостей и амбиций, ложной скромности и внутреннего упрямства, которые вели меня от одной беды к другой. Но я видел и уверенную руководящую силу. Каждая катастрофа являла собой гибель какой-то части меня, но вслед за ней неминуемо наступало возрождение. Внешне моя жизнь представляла собой череду несбывшихся надежд, но внутренне шаг за шагом совершалось освобождение от ложной надежды на внешнее и растущая уверенность во внутреннем. Шивапури-баба сместил равновесие в мою пользу.
В одной из бесед с ним я поинтересовался, что он думает насчет моей растущей необходимости присоединиться к католической церкви. Он говорил о религии как о прибежище тех, у кого недостает сил следовать путям Господа и отметать все остальное. Поэтому я был не готов услышать заверение, что для меня это был правильный путь. Он сказал, что через Христа я найду Реализацию Бога. В 26 главе я описывал мой первый опыт следования уставу Бенедиктина в Св. Вондрилле. Я был счастлив, когда имел возможность провести там несколько дней или даже недель, но мое призвание оставалось для меня неопределенным.
Вскоре после возвращения из Непала я отправился в Св. Вондрилл и решил молиться о руководстве. Пришедший знак был, как обычно, неожиданным, но убедительным. Однажды во время обедни я, как гость Монастыря, сидел позади хоров, но впереди перил, отделяющих общину от мирян. Это означало, что священник, несший Причастие, проходил мимо меня. Я задумался, как вдруг почувствовал трепет по всему телу. Я понял, что вместе с Причастием ко мне приближается Христос. Я чувствовал, как он прошел мимо меня, и я наполнился глубочайшим благоговением и величайшей радостью. Опускаясь на колени, я уже не сомневался, что Господь может присутствовать и присутствует в храме. Блеснула мысль о том, что доктрина Реального Присутствия на самом деле свободна от антропоморфизма, столь огорчавшего меня в большинстве христианских теологии. Будучи чистой Волей, Он может проявляться через что угодно. Я понял, как проявляется Бог-Сын и что он действительно должен стать человеком по соображениям проявления. Это и многое другое проносилось в моем мозгу, и в то же время я чувствовал радость и благодарность за то, что это было мне открыто. Более того, я осознал, что Любовь Бога находится вне ограничений существования – «названия и формы» – в терминах нашего мышления. Я был убежден, что вездесущая любовь может достичь меня – маленького коленопреклоненного существа, почти незаметного в церковном приделе.
С этого момента я начал готовиться и через несколько месяцев был принят в лоно церкви моим другом аббатом. Год спустя Элизабет и дети последовали моему примеру. Вначале Элизабет пришла ко мне, чтобы поделиться своей верой. Это произошло вскоре после того, как она сама пережила откровение, убедившее ее в Реальном Присутствии и позволившее ей принять многое из того, что она не могла понять в церкви и ее догматах. Несмотря на мою веру в святыни католической церкви и, соответственно, в Апостольство, я не мог не видеть, как много различных спекуляций и человеческих фантазий вошли в церковное учение. Я прекрасно понимаю, как мало евангельская история, представленная в Новом Завете, соответствует реальным событиям, происходившим в Галилее и Иерусалиме, и насколько важно осознание Воплощения. Церковь заблуждается как в своем консерватизме, так и в модернистских течениях, да и середина не лучше. Католическая церковь хранит тайну, которую не понимает; но ее святыни от этого не становятся менее реальными.
Поездка к Шивапури-баба и то, что я пережил в Св. Вондрилле, совместно уничтожили ту депрессию, в которую я было впал, и подарили мне новую надежду найти духовную реальность, отсутствовавшую в Субуде. Мне открывались новые идеи и новые прозрения, и я должен был действовать.
Одним из первых плодов моей только что приобретенной веры стало решение организовать летом 1962 года семинар в Кумб Спрингс, посвященный моей интерпретации гурджиевской психологии. Я видел, что произошли огромные изменения. В первый раз в жизни я осмелился быть самим собой. Только два года назад я достиг того, что принял за конец пути, осознав, через Субуд, смерть своей материальной самости и возрождение с реальной способностью сострадания и понимания. Теперь я видел, как же еще далеко до конца. Я все еще оставался ребенком или, по крайней мере, подростком. В шестидесятипятилетнем возрасте я должен был еще «вырасти».
Семинар оказался потрясающим опытом для всех, принимавших в нем участие. Мне помогали двое старых друзей, Изабель Тернэйдж, квакер, и Джон Холлонд, переименованный Полли в «Дика», оба жившие в Кумб Спрингс. Они поддерживали меня во времена болезненного выхода из Субуда и воодушевляли на самостоятельное продвижение вперед четвертый или пятый раз в моей жизни.
Обсуждения, происходившие на семинаре, были сохранены с помощью замечательного приспособления – магнитофона. В то время я частенько говаривал, что это одно из тех немногих изобретений, которые используются только во благо. С тех пор его стали использовать для записи частных разговоров (подслушивания) – результаты самые плачевные, еще раз подтверждающие человеческую глупость. Однако в нашем случае магнитофонная запись позволила нам восстановить этот семинар и с помощью Изабель Тернэйдж представить его в виде книги. Я отправил его Полю Ходцеру Уильямсу, чтобы узнать, пригодна ли эта книга для публикации. В 1964 году она появилась в виде «Духовной психологии», весь тираж был распродан, и книга выдержала еще три или четыре издания. Возможно, я бы продолжал работу над психологическими техниками Гурджиева и перевел бы Кумб Спрингс в центр гурджиевского учения, но случилось непредвиденное.
В июне 1962 года, готовясь к семинару, я получил письмо от Регги Хоара, одного из ранних учеников Успенского, присоединившегося к его группе в 1924 году по пути из Турции. Регги разделил со мной все взлеты и падения Успенского, Гурджиева и Субуда. Он тихо вышел из Субуда в 1960 году, отказавшись участвовать в обсуждении, последовавшем за Конгрессом по Субуду. К письму он приложил газетную вырезку, описывающую поездку автора по святым местам Центральной Азии, где он обнаружил учение, исходящее явно из того же источника, что и идеи Гурджиева. Это письмо предваряло сообщение, что Регги и еще три-четыре его старых друга по ученичеству встретили Идриса Шаха, приехавшего в Англию в поиске последователей Гурджиева, намереваясь передать им знания и методы, необходимые для завершения их обучения.
Я отнесся к этому очень осторожно. Только я решил идти вперед сам, как появляется новый «учитель». Несколько бесед с Регги убедили меня, что я должен сам увидеть Шаха. Мы с Элизабет отправились на ужин к Хоаресу, чтобы познакомиться с Шахом, оказавшимся молодым человеком едва ли сорока лет. Он ужасно говорил по-английски, но его бородка и некоторые жесты делали его похожим на ученика английской публичной школы. Первое впечатление было неблагоприятным. Беспокойный, беспрерывно курящий, он слишком много говорил и явно старался произвести хорошее впечатление. Но во второй половине вечера наше впечатление сменилось на противоположное. Мы разобрались, что перед нами не только необычайно одаренный человек, но и человек, несомненно много и серьезно работавший над собой.
В первые несколько месяцев я не поддерживал с ним отношений. Осенью Регги Хоар убедил меня вновь встретиться с ним, заверив меня, что тщательно «проверил его верительные грамоты» и убедился, что Шах послан на Запад афганской эзотерической школой, возможно, из тех, что описывал Гурджиев в последней главе «Встреч с замечательными людьми». Особое значение Регги придавал тому, что Шах рассказывал ему о символе Эннеаграммы, подчеркивая, что это выходит далеко за пределы того, что нам рассказывал Успенский. Зная Регги как человека очень подозрительного, с навыками оценки информации, приобретенными в многолетней разведывательной службе, я принял его уверения и веру в то, что Шах послан на Запад с очень важной миссией, которую мы должны помочь ему исполнить.
Я оказался в новой для меня ситуации. Шах не был и не претендовал на звание учителя, но утверждал, что его послал учитель и что его поддерживают «Хранители Традиции». Он дал мне документ, поручив ознакомить с ним моих учеников и всех, кого я сочту нужным. Здесь я привожу его основные положения с разрешения мистера Шаха.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЛЮДЕЙ ТРАДИЦИИ
У всех народов во всех странах есть предание о тайном, скрытом, особом, высшем знании, доступном человеку после преодоления определенных трудностей.
Данная декларация касается этого вопроса.
Мы заявляем, что подобное знание существует, и что в настоящее время есть возможность его передачи тем людям, которым адресована эта декларация.
Это знание и его воздействие отличаются от привычного знания, поэтому попытки найти его и воспользоваться им всегда тщетны. Оно откликается и действует, только если добыто особым образом. Вот первая трудность, встречающаяся на пути.
Людей, живущих достаточно долго, чтобы путем проб и ошибок подобрать нужные условия для «поиска», немного. Требуются специальные знания и техники. Массовое стремление не может компенсировать неспособность или невежество индивидуума.
Это знание концентрируется, управляется и контролируется тремя типами людей, присутствующих в каждый данный момент времени. Их называют «Невидимой иерархией», поскольку обычно они не общаются с ординарными человеческими существами.
В каком-то смысле, путь к знанию лежит через «цепь поколений», в которой восприимчивость обычного человека получает помощь в установлении высших связей. Религия, фольклор и т.д. заполнены скрытыми примерами этого процесса.
Многие религиозные, магические, алхимические, психологические и другие проявления реальности входят как часть в то знание, о котором мы говорим. Часто то, что считается «Путями к Истине», является не больше чем техниками, применяемыми в прошлом, чтобы достичь вышеупомянутой связи.
Наличие и неправильное использование этих пережитков представляют одну из огромных «трудностей» в поиске высшего знания. То, что было коконом для бабочки, для гусеницы становится тюрьмой, если она пытается использовать его, чтобы стать самой бабочкой. Она совершенно не понимает, что должна сделать собственный кокон. Затем у нас есть привязанности в виде ритуалов, убеждений и особенностей характера, когда-то бывшие особой и высшей функцией, но ставшие «обусловливанием», чувственным или интеллектуальным. Если бы действительно осознавалось истинное величие и важность таких институтов, людей и процедур вместо патетических попыток их внешнего копирования, приверженцы этих методов смогли бы распознать подлинную красоту, величие и важность вещей, которым, как они думают, угрожают замечания, подобные представленным здесь.
Таким образом, человек совершенно не видит истину, хотя знает, что она должна быть где-то здесь. Он должен увидеть ее. Сделать это он может только сформулировав свой собственный вопрос, лишенный каких-либо связей с прошлым. Вот в чем причина многочисленных интерпретаций Пути к Истине.
Не следует думать, что человек должен отбросить существующие у него ассоциации и автоматизмы, чтобы на их месте построить новые; потому что здесь и теперь существует возможность проскользнуть за завесу обусловленности к восприятию той областью ума, которая в действительности не используется.
Вот цель, на которую сейчас направлены наши усилия.
Условия в обществе изменяются так, что работа такого типа может быть выполнена. Нет необходимости в данный момент обсуждать причины возникновения таких условий. Подобное обсуждение упражняет ум, что бесполезно без параллельного опыта.
Задачей хранителей Традиции является общение на любом языке с теми, кто может извлечь из сказанного пользу. Хранители частично связаны способностями людей, к которым они обращаются, и способностью самой по себе. Опыт, возраст и психологические особенности адресатов не имеют значения.
Опыт свидетельствует, что подходящие кандидаты обнаруживаются среди последователей любой традиции.
Еще одна трудность на Пути к Истине состоит в том, что знание, о котором идет речь, обнаруживается в местах и у людей совершенно неожиданных. Поэтому его появление всегда не совпадает с ожиданиями.
Все, что сказано о «трудностях», показывает, что они больше кажущиеся, чем реальные. Трудностей всегда больше у того, кто не может реально оценить ситуацию.
Кроме объявления и помещения определенных идей в определенные области ума и указания некоторых факторов, окружающих эту работу, авторы декларации имеют также и практическую задачу.
Эта задача состоит в выявлении людей, способных получить особые знания, составить из них группы особым, неслучайным образом так, чтобы каждая группа являла собой гармоничный организм; выполнить это в нужном месте и в нужное время, обеспечить внешние и внутренние условия для работы и представить идеи соответственно конкретным особенностям группы; уравновесить теорию и практику.
Эта Декларация была зачитана группам в Кумб Спрингс и в Лондоне. После стольких лет разговоров о Традиции и о «Внутреннем Круге Человечества» они были потрясены, услышав, что здесь, в Англии, находится человек, говорящий от имени «Невидимой Иерархии». Я довольно узнал Шаха, чтобы убедиться, что он не шарлатан и не бездельник, а чрезвычайно серьезно относится к полученному заданию. Он всегда настаивал, что действует не по собственной инициативе, но по инструкциям своего Учителя, который доверил ему миссию, указанную в последнем параграфе Декларации.
В начале 1963 года я начал задаваться вопросом, не следует ли мне поступить в распоряжение Шаха и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Каждую неделю мы встречались и подолгу беседовали вдвоем. Будучи тридцатью годами меня младше, неизвестный и в то время почти лишенный последователей, он, однако, редко меня навещал. Каждую неделю именно я совершал утомительное путешествие из Кумб Спрингс, и именно он все время вел беседу. Его целью было «доказать свою ценность», то есть убедить меня в подлинности его миссии и реальности сил, стоящих за ним. Он часто ссылался на суфийскую доктрину «Бараки», которую я понимал как «Высшую Эмоциональную энергию», о которой говорил Гурджиев в Prieure в 1923 году, а в «Рассказах Баалзебуба своему внуку» и в дальнейшем вплоть до своей смерти называемой им Ханбледзоин.
Казалось, я должен был определить для себя, действительно ли Шах – посланник Хранителей Традиции, или «Тайного Директората». В январе 1965 года я немыслимым образом убедился, что это действительно так. Молясь однажды утром, я просил о ясном указании, следует ли мне полностью доверять Шаху. По дороге в Лондон пришел ответ: «для этого вам следует вместе помолиться». Встретившись с ним, я рассказал ему о случившемся. Он ответил: «Все верно. Истина приходит только в молитве». Этот ответ удовлетворил меня, и больше я не задавал вопросов. Только позднее я заметил, что в действительности он не сделал того, о чем я говорил, то есть совместной молитвы. Потом я спрашивал себя, не упустил ли я того указания, о котором просил.
Вскоре это забылось, настолько было интересно наблюдать развертывание планов Шаха по получению доступа к тем людям, которые занимали положение в обществе, обладали авторитетом и властью и уже наполовину осознавали, что проблемы человечества больше невозможно решать экономическими, политическими или социальными мерами. Таких людей коснулись, говорил он, новые силы, пришедшие в мир, чтобы помочь человечеству пережить кризис. Это согласовывалось с моими собственными заключениями, которые я высказывал за год до этого в серии лекций под названием «Духовная революция нашего времени». Я также не мог с ним не согласиться, что люди, привлекаемые в большинство духовных или эзотерических движений, редко обладают качествами, необходимыми для того, чтобы занимать авторитетное положение в обществе. И с моей точки зрения были все основания полагать, что во всем мире можно найти людей, уже занимающих высокие посты и способных выйти за ограничения национальности и культуры и самим осознать, что единственной надеждой человечества остается вмешательство Высшей Силы.
С течением времени я понял, что Шах смотрит на меня как на обязанного принять решение помочь ему вывести свою работу на новый и более широкий уровень. Он дал понять, что хотел бы иметь место, подобное Кумб Спрингс, чтобы общаться как можно с большим количеством людей. Я предлагал ему самые разные возможности, включая предоставление Кумб Спрингс в его полное распоряжение. Он все отвергал и, наконец, стал все больше и больше давить на меня, чтобы я решил, что же я могу сделать, говоря: «Времени мало. Караван уходит. Тот, кто не готов к нему присоединиться, останется позади».
Я понял, что он хочет не воспользоваться Кумб Спрингс, но получить его в собственность; не только получить доступ к моим ученикам, но и взять под свою опеку тех, кто покажется ему полезным для его дела. В этом я также увидел для себя возможность освободиться от привязанности к этому месту. Я прожил в нем не один год – с 1941 – и надеялся умереть здесь и оставить после себя последователей, которые будут продолжать работу, – возможно, моих сыновей. Я нежно любил это место, в особенности Джамихунатру, всегда меня вдохновлявшую. Это был единственный памятник, который мог бы после меня остаться. Мысль, что он будет разрушен, была для меня непереносима. Не было ничего более тяжелого для меня, чем уйти и оставить все это. Чем больше росли во мне эти чувства, тем сильнее я убеждался, что должен принести жертву.
Шах настаивал, что если мы отдаем ему Кумб Спрингс, то подарок должен быть безусловным, безвозвратным и совершенно добровольным. При желании я, а не он должен был убедить наш Совет и членов Института в правильности этого шага. К июню 1965 года я принял решение. Я сформулировал задачу. Это не должно было быть сложным. Большинство членов были согласны без вопросов следовать за мной. Некоторые возмутились и потребовали объяснений. Я был им очень благодарен, поскольку они дали мне возможность проверить, не действую ли я под влиянием момента. Этим летом мы провели в Кумб Спрингс последний семинар. Шах приехал и говорил со студентами. Он не пытался давить на них или рассказывать о чем-нибудь конкретном, но сумел убедить их в важности и срочности его миссии.
В октябре состоялось внеочередное общее собрание членов, наделившее Совет полномочиями вывезти наиболее ценное имущество Института. По оценкам экспертов, Кумб Спрингс стоил более L100000. Некоторые члены настаивали, что нужно продать Кумб и, возможно, отдать половину денег Шаху, а на оставшиеся купить землю за городом. Я почти безнадежно пытался найти какой-нибудь компромисс, но Шах настаивал на своем. Наконец решение было принято, и мы приготовились покинуть наш дом. Двадцатилетнее пребывание в большом доме позволяет скопить много движимого имущества. Мы продали все, что могли, и разрушили все, что были не в состоянии увезти с собой. Шаху досталось все, что он хотел, включая Джамихунатру с ее коврами и мебелью.
К тому времени он уже подгонял нас, говоря, что его работа не терпит отлагательств. Я не знал, куда пойти. Однажды мы услышали о продающемся в Кингстоне доме. Мы с Элизабет поехали посмотреть его в то же утро, предложили условия, которые были приняты, и подготовились переехать на Брунсвик-роад, 23. Тринадцатого января 1966 года мы праздновали день рождения Гурджиева, на котором присутствовало более 250 учеников и друзей. В последний раз в Джамихунатре прошел показ гурджиевских движений. Я испытывал двойственные чувства. Я не думал, что Шах организует в Кумб Спрингс суфийский центр: он настаивал, что его руки должны быть совершенно чисты. На общем собрании я сказал: «Предположим, что Шах продаст Кумб Спрингс и отбудет в Афганистан с сотней тысяч фунтов в кармане. Что нам до того? Мы поступаем правильно, помогая его миссии. Просить гарантий означало бы погубить дух нашего поступка». Я храбрился, но колебания оставались. Куда делось мое решение действовать самостоятельно? Моя уверенность в собственной миссии? Все перекрыло убеждение в необходимости большой и важной жертвы. Я хотел доказать себе, что свободен от привязанности к любой материальной собственности и к положению, занимаемому мной среди моих учеников. Я сделал все и все же не был уверен в своей правоте.
Следующие несколько месяцев перенести было трудно. Шах запретил моим людям посещать Кумб Спрингс. Он неистово обрушивался на любую задержку в освобождении дома. Его явное негостеприимство отвадило меня от посещения Кумб Спрингс. Некоторые из моих учеников отправились туда поговорить с ним о недопустимости такого обращения со мной, но с ними быстро расправились. Я получил только одно приглашение на «Празднование середины лета», продолжавшееся два дня и две ночиивосновном устроенное для молодых людей, которых Шах интенсивно собирал вокруг. Вообще-то, Шах – человек изысканных манер и тонко чувствующий, так что его поведение может быть отнесено за счет желания убедиться, что все наши связи с Кумб Спрингс разорваны. Я хорошо понимал, что не пользовался благосклонностью некоторых из его влиятельных последователей, и не видел, какую пользу могу принести его организации. Я выполнил свою роль и не видел смысла как-то рваться вперед и дальше. Я с головой ушел в Научно-образовательный проект, который, в случае успеха, мог бы действительно понадобиться в будущем. Со своим обычным энтузиазмом я уже видел наш метод, используемый во всем мире для трансформации обучения из пассивного процесса, в котором учитель главенствует над учеником, в активное, самоуправляющееся обучение, доступное для каждого.
В 1966 году мы услышали, что Шах решил продать Кумб Спрингс. Об этом свидетельствовало объявление о продаже, вывешенное на воротах, чтобы удовлетворить специального уполномоченного по делам благотворительных учреждений и департамент образования и науки, с весьма большими колебаниями согласившихся передать поместье от нашего Института Обществу по Пониманию Основ всех Идей (Society for Understanding the Foundations of Ideas – то есть SUFI), основанное как трест и признанное благотворительной организацией. Несколькими месяцами позже мы узнали, что собственность была продана более чем за 100000 фунтов (за $300000) и что на этом месте планируется построить 28 роскошных домов. Вместе с семьей Шах переехал в Лангтон-Хаус в Кенте, в место, несомненно более подходящее для его целей, нежели Кумб Спрингс, и я не жалел, что Кумб потеряет свое лицо. Одно только было больно – видеть, как разрушают Джамихунатру. Мы было попытались спасти прекрасные оконные стекла, расписанные Розмари Резерфорд, но это оказалось невозможным, и они пропали.
Все это происходило в 1966 году, когда я с головой ушел в образовательный проект. Я передал свои группы Шаху который задумал объединить всех, пригодных для его работы. Из 300 человек около половины оказались задействованы, а остальные повисли в воздухе. Я мало что мог для них сделать и только по этой причине медленно возобновлял работу с группами.
Период с 1960 года, когда я начал отходить от Субуда, по 1967, когда я снова остался совсем один, имел для меня огромную ценность. Я научился служить и жертвовать и знал, что свободен от привязанностей. Так произошло, что к концу этого периода я по делам отправился в Америку и повстречал в Нью-Йорке мадам де Зальцман. Она с любопытством расспрашивала о Шахе и спросила меня, что я получил от общения с ним. Мой ответ был: «Свободу!» До этого я всегда искал поддержки, так что даже осознание того, что мне дана и надежда, и вера, не позволило мне свободно следовать своему предназначению. Заставив себя сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить выполнение миссии Шаха, в которой лично для меня не было места, я заплатил по счетам за помощь других людей. Теперь я мог возвращать долг моему Создателю.
Я хотел оставаться в тени и от всего удалиться. Приближалось мое семидесятилетие, множество друзей хотели отметить его совместным подарком. Более ста человек собрали большую сумму денег, и меня спросили, что бы я хотел. Очень раздраженно я отказался ото всего, настояв, чтобы деньги были возвращены владельцам, и заявив, что не хочу даже вечеринки. Это грубое поведение соответствовало моей внутренней неразберихе.
В седьмой главе описано предсказание, случившееся в 1921 году, о том, что я не найду истинного смысла своей жизни, пока не достигну семидесяти лет. Этот момент приближался, но я не видел, что он может изменить. Ни к кому в мире я не мог обратиться за советом; мой внутренний голос тоже молчал. Я выучился смотреть на свою жизнь новыми глазами. Я понял, что две вещи наиболее полезны для меня. Одна – избавление от ложной скромности, а другая – служение и жертва во имя цели, не являющейся моей собственной. Я не только обрел свободу, но и научился любить людей, которых не понимал. Я больше не был юношей с ледяным сердцем, но все еще оставался ребенком. Несмотря на свои семьдесят лет, я все еще не знал «цели и смысла своего существования». Но я знал наверняка, что дальнейшие попытки могут стать губительными без ясного видения не только того, что следует делать, но и подходящего для этого времени и места.
Глава 28
Жизнь начинается в семьдесят
В течение десяти лет, с 1960 по 1970 год, внешний ход моей жизни в основном был подчинен попыткам соотнести то, что я узнал о человеческой натуре, с проблемами, связанными с изменением темпов современной жизни. Во всем мире образование на века отстает от нашего времени. Наши университеты средневековые как по сути, так и по форме. Школы только сейчас начинают отказываться от модели, установленной несколько сот лет назад (отношения учитель-ученик, ряды скамеек и парт в классной комнате). Мы сосредоточили все образование в детском и подростковом возрасте, то есть тогда, когда большинство людей не имеют ни малейшего представления о том, чего они хотят от жизни. В большинстве профессий знания, полученные в двадцать лет, безнадежно устаревают к сорока годам. Скорость изменений нарастает, и становится все более очевидной необходимость непрерывного образования. Однако инерция существующей системы с ее большими вложениями в строительство и людей препятствует быстрым изменениям. На образование тратится больше денег, чем на любой другой вид человеческой деятельности, а выход минимален. Мы не лучше и не цивилизованнее так называемых необразованных людей. В «развитых» странах гораздо выше степень неудовлетворенности жизнью, больше несчастных и сумасшедших, чем в так называемых «отсталых» странах. Цивилизация перестала быть цивилизованной.
Одно время я смотрел на все это со стороны, благодаря небо за то, что у меня другие цели, нежели «помощь человечеству». Хотя я и сейчас уверен в своей несостоятельности, я понимаю, что суть не в этом. Масштаб наших действий должен соответствовать нашим силам, и пытаться сделать больше означает жить в мире мечтаний, где ничего и никак не происходит.
Среди множества молодых людей, приезжавших в Кумб Спрингс в период между 1957 и 1960, годом был Тони Ходжсон, ученый-химик, буквально проглотивший первый том «Драматической Вселенной» и готовый начать действовать. В Норвегии с ним произошел в горах несчастный случай, он был тяжело ранен и по-новому взглянул на «смысл и цель нашего существования». Он приехал в Лондон с группой, названной Интегральная Научная Группа Исследования Образования (ИНГИО), созданная для претворения в жизнь интегральных идей «Драматической Вселенной» и реформирования обучения наукам. Мне это предприятие казалось многообещающим.
Волею случая я был приглашен на заседание совета Миддлсексого графства, посвященного интригующей теме «Как думать?» Нужно было выяснить, почему молодые инженеры, отправляемые своими работодателями на год для повышения квалификации в технические колледжи, так мало в этом преуспевают. ИНГИО провела некоторые исследования и выяснила, что все технические курсы проводились по замкнутой системе, то есть были сфокусированы на определенных точных действиях и результатах. Реальные инженерные задачи всегда открыты и требуют совсем другого подхода, чем этому учат в школе. Мы попытались провести короткий курс в конце обычных занятий, и первые же результаты оказались весьма показательными. Студенты, в основном с довольно низким уровнем знаний, вдруг поняли, «к чему все это».
К сожалению, подобное «разобусловливание» требует подготовленных и талантливых педагогов, умеющих удержать равновесие между контролем и хаосом. Такие педагоги – редкость, так как, имея столь блестящие способности, они обычно заняты на бол ее престижной работе. Возможно ли механизировать процесс, например, с помощью компьютера? С целью ответить на этот вопрос мы провели исследование, закончившееся изобретением нашим другом Бобом Арбоном из компании General Electric новой обучающей машины, названной Системастер. Карл Шаффер, уже упомянутый мною в связи с Субудом, добился представления Системастера на ежегодном съезде Американской Ассоциации Управления в Нью-Йорке в 1965 году. Проявленный участниками съезда живейший интерес обеспечил нам поддержку английской компании General Electric. В истории этого изобретения нет ничего необычного, оно столкнулось с теми же преградами, что и любое другое. К 1968 году был создан образовательный трест – Центр Структурной Коммуникации, и наше изобретение было «спущено на воду». У нас даже было средство массовой информации «Systematics,» журнал нашего Института, признанный в академических кругах.
Обнаружив, что проникновение в образовательные учреждения займет много времени, мы переключились на промышленность. В 1969 году мы основали компанию «Структурные Коммуникационные Системы, Limited” (СКС), поддерживаемую ведущими финансистами лондонского Сити. Я оказался по горло втянутым в финансовые, административные и торговые заботы. Это произошло как раз двадцать пять лет спустя, после того, как я занялся деланиумом с Powell Duffryn. Вновь у меня не осталось времени писать и работать с группами. Я общался только с теми, кто сотрудничал в СКС, и несколькими проживающими в Кингстоне и приходящими каждое утро к нам в дом для совместных упражнений и получения от меня инструкций, касающихся методов работы. Эта группа была спасительным островком для всех нас. Я начинал понимать, что моя настоящая работа – это не производство и финансы. Компания занималась полезной общественной деятельностью, но я не был для нее подходящим администратором. Мои слабости, в особенности неспособность сказать «нет», были при мне, и я ничего не мог с ними поделать.
В 1968 году в мою жизнь пришло новое веяние. Впервые с Хасаном Шушудом я познакомился в 1962 году в Турции, куда я ездил с Элизабет и Пат Терри-Томас. По настоянию некоей турецкой дамы, приятельницы моей сестры Винифред, я познакомился с ее учителем, завершенным суфием, живущим над Босфором возле Тарабии. Тогда он дал мне копию своей книги «Хваяган Ханедани,» истории учителей мудрости Центральной Азии и описания способа Абсолютного Освобождения – Итлак Иолу, – основным толкователем которого он был и остается. Я не обратил на все это особого внимания, так как в то время находился под влиянием встречи с Шивапури-баба. Через несколько лет, решая, должен ли я помогать Идрису Шаху, я написал Хасану, спрашивая его мнения. Он ответил, что у меня свой путь и настало время освободиться от всех учений и учителей. Я не прислушался к этому совету, хотя и распознал его скрытый смысл. Прошло еще три года, прежде чем Хасан приехал в Англию навестить меня, и только тогда я понял, что он прав.
Приехав, он остановился у нас на Брунсвик-роуд, но потом беспокойно переезжал с места на место. Меня очень угнетало, что дела не позволяют мне общаться с ним столько, сколько ему бы этого хотелось. Несмотря на это, он очень ясно выразил свое намерение: он пришел, чтобы напомнить мне о моем предназначении и восстановить былую уверенность в моей способности его исполнить. Он настаивал, что я «учитель», оставивший далеко позади всех тех, кого считал своими учителями. Он научил меня и остальных зикр-и-даиму, или постоянной молитве сердца, которая не требует слов и не зависит от вероисповедания. С тех пор прошло пять лет, и, должен сказать, это упражнение принесло мне неоценимую пользу. Оно включает метод контролирования дыхания, более эффективный, чем известные мне ранее. Вначале я не ожидал многого от зикра, потому что с недоверием относился к дыхательным упражнениям, отличным от тех, которым меня научил Гурджиев. Однако через несколько дней обнаружил его реальное и успешное воздействие. Контролирование дыхания переводит действие зикра с уровня физического тела на астральное (тело Кесджан), которое становится более сильным и эффективным.
Хасан уверил меня, что видение, описанное мною в седьмой главе этой книги, которую он внимательно прочел, было подлинным и требует выполнения. По его словам, я должен был пойти дальше, чем простирались мои самые смелые надежды. Я буду жить в великом веке, а зикр удлинит не только мою жизнь, но и прибавит мне энергии. Эти обещания не оставили меня равнодушным, поскольку я сам чувствовал, как готовлюсь к некоему важному шагу вперед. Я был в замешательстве и полон дурных предчувствий, которые я трактовал как предвестников смерти и воскрешения. Около семидесяти жизнь теряет свою реальность. Начинаешь спрашивать себя, не сбился ли ты с пути, не растерял ли все силы. Внешняя жизнь теряет смысл, хотя вроде бы все идет как надо. Все это, по крайней мере в моем случае, указывает на приближение перекрестка.
Хасан взял на себя огромную задачу убедить меня в моей значимости. Невозможно повторить все, что он говорил мне, но кое-что я должен упомянуть, поскольку это повлияло на мою жизнь. Одним из результатов этих разговоров стало расширение моих горизонтов и серьезное отношение к тому, что в общем предназначение человека определяется по шкале веков, а не десятилетий. Приняв это, приходится смириться с тем, что в течение ближайших двадцати лет нельзя планировать сколько-нибудь значительного действия. Инерция социальной системы мира не может быть преодолена иначе, как путем ее полного разрушения. Одно из потрясающих утверждений Успенского, высказанных им около 1924 года, состояло в том, что есть реформаторы, предотвращающие перемены путем изобретения безопасных клапанов и высвобождения опасных напряжений. Спешащие изменить мир больше препятствуют реальному прогрессу, чем все консерваторы.
Я уже знал, что истинные изменения приходят вместе с силой идей, но действительно новые действуют очень медленно. Представление о том, что все человеческие жизни одинаково священны, появилось в шестом веке до рождества Христова. Оно проникло во все уголки населенного мира вместе с Буддой, Конфуцием, иудейскими пророками изгнания, Солоном и Пифагором, и в самый центр мира его принес Заратустра. До этих пророков было принято разделение человечества на малочисленную высшую касту и многочисленный пролетариат без прав или значимости. Героическая, или, как я ее называю в «Драматической Вселенной», Гемитеандрическая эпоха, создала города, ремесла и торговые пути, морские и сухопутные, изобрела письменность и сделала большой технический шаг вперед. Но она ничем не помогла тем сотням тысяч, которые преследовались завоевателями с благословения священников и поэтов. Новая идея священности человеческой жизни и прав всех людей искать свое собственное спасение была очень мощной и необходимой человечеству, чтобы избежать катастрофы. Согласитесь, что прошло много веков, прежде чем новые ценности, проистекающие из этой идеи, завоевали всеобщее признание.
Сейчас мы находимся на пороге Новой Эпохи, в которой не будет места неприкрытому индивидуализму. Мир настолько усложнился, а интересы людей так взаимосвязаны, что считаться с другими значит больше, чем считаться с собой. Это центральная идея христианства: «Носите бремя друг друга и таким образом исполните закон Христов» (Павел, Гал. 6:2). В течение двух тысяч лет христианская культура не смогла добиться принятия очевидной и необходимой истины, заключающейся в том, что эгоизм губителен для нас самих и окружающих. Нужно признать, что попытки вызвать у людей «любовь к ближнему» провалились и обречены навсегда. Нужно что-то совсем новое, скорее захватывающее воображение, чем удовлетворяющее интеллект, и это «новое» должно сначала воплотиться в малом масштабе и оправдать себя, прежде чем искать всеобщее признание. Индустриальная революция сформировала общество, для которого земледелие стало устаревшим, а оно, в свою очередь, сделало устаревшим кочевую жизнь. Коммунизм работает только в условиях глубочайшей религиозной веры и дисциплины. История свидетельствует, что не только в России, но и в других странах атеистический коммунизм не работает без грубых репрессий.
Откуда придет новая идея, которая даст людям новые жизненные возможности? В «Драматической Вселенной» я писал, что идея взаимодействия с Высшими Силами – Синергизм – будет главной точкой в наступающем веке. Даже когда я это писал, я не осознавал в полной мере его силы. Я выдвинул идею «тайного управления», состоящего из людей, достигших реальности и поэтому могущих общаться с Демиургическими Силами.
Теперь, в ходе бесед с Хасаном Шушудом и из практикования зикра, я начал понимать, что «Высшие Силы» не могут работать иначе, чем через человека. Синергия – это не кооперация с Демиургической Сущностью, но приобретение демиургического разума. Я понял это давно и в 1960 году во втором томе «Драматической Вселенной» приравнивал Демиургическую Сущность к «высшей природе « человека. Пока я не испытал на практике того, что знал в теории, я не понимал, как работает «внутренний цикл». Я все еще сомневался, может ли подобная «работа» производиться во мне. Хасан убедил меня в справедливости этого факта, говоря об этом словами Итлак Суфизма. Это стало догмой, которую я принял, не примеряя ее на себя, – как это часто бывает с догмами. Только теперь, сорок лет спустя, я освобождаюсь от обусловливания, которому я подвергся в группе Успенского, где постоянно подчеркивалось, что высшие уровни далеки от нас и объективное сознание нас не касается.
Не считаться с переменами в моей внутренней жизни было невозможно. Теперь я сам понял, как был прав пятнадцать лет назад, написав «Воля не существует» и «Бог, будучи чистой Волей, не существует». Из этого следовало, что, поскольку это касается моего истинного существа, я тоже не существую. Понимание, что не существуешь, а то, что существует, – всего лишь материальный объект, механизм, в котором во сноподобном состоянии находится истинное сознание, не ужасало, а являло собой краеугольный камень реальности и источник надежды.
По мере того, как перед моей внутренней жизнью разворачивались новые перспективы, я начал задаваться вопросом, имеет ли смысл моя внешняя жизнь. Всю жизнь я сам взваливал на себя различные тяжелые задачи. Все они были искусственными, большинство даже фиктивными, и именно это лишало их достаточной внешней поддержки. Я должен был трудиться в поте лица просто, чтобы дела как-то шли. Казалось, я пытался из видимости создать реальную ситуацию. Одно время я полагал, что «Структурная Коммуникация» будет иной. Это была настоящая оригинальная и ценная технология с огромным потенциалом улучшения процессов обучения и коммуникации, от которых все больше зависит современная жизнь. Мою команду составляли интеллигентные и преданные делу люди; кроме того, у нас было достаточно денег. Бизнес-консультанты, проверявшие наши планы, дали нам определенные советы, которым мы последовали: успех вроде был обеспечен. А теперь одна за одной на нас сыпались неудачи. События непредсказуемые или, возможно, непредсказанные, например, резкое уменьшение денег на научные исследования сэром Арнольдом Вейнштоком, главой компании General Electric, затянуло подготовку машин к демонстрации, из-за чего мы потеряли очень важную для нас связь с военно-морским флотом США. У нас были тесные контакты с верхушкой I.B.M., была направлена группа для изучения работы Системастера и возможности его применения в компьютеризированном образовании. Внезапно I.B.M. свернула свои амбициозные программы в области обучения, нас оставили с заверениями в нашем успехе и небольшой финансовой поддержкой, но без всякой надежды на глобальный прорыв. Как и тысячи остальных, нас настигло сокращение социальных программ вслед за избранием мистера Никсона президентом. Мне приходилось постоянно приезжать в Штаты и все больше и больше времени отдавать компании. Я был председателем отделения и не должен был вести дело, но паттерн моего рока неизбежно повторялся.
Я собирался несколько дней в месяц посвящать компании, а остальное время писать. У меня были контракты с издателями. Я хотел продолжить исследования, начатые во время работы над «Драматической Вселенной». Я знал, что мне нужно больше времени для внутренней жизни.
Уезжая в Турцию, Хасан Шушуд просил меня больше заботиться о своем здоровье. Я пренебрег его советом. К сентябрю я не просто устал, но был тяжело болен. Мне невероятно повезло: как раз в то время я возобновил дружбу с доктором Чандром Шармой, которого я временами встречал с 1948 года, когда нас познакомил Ратнасурия. Шарма был одним из действительно необычных людей, которых я знал. Начало его жизни прошло в Южной Индии, он служил при храме и был направлен Шри Раманой Махарши в Бомбей «учиться на врача». С тех пор он прошел полную медицинскую подготовку в Великобритании и стал одним из ведущих специалистов в гомеопатии и других видах традиционной медицины. Он ставил диагноз путем сверхъестественного, чудесного проникновения в общее состояние пациента. Я направлял к нему сотни учеников и друзей в тех случаях, когда ортодоксальная медицина отказывалась им помочь. Удивительные исцеления прославили его, в основном в Англии, Северной Европе и США, и сейчас он один из самых известных врачей в нашей стране.
Это отступление необходимо, чтобы рассказать о том, что случилось со мной в январе 1969. Компания «Структурные коммуникации» только что образовалась и требовала всего моего внимания, но я едва мог заставить себя добраться до офиса. Др. Шарма предупредил меня, что необходима операция простаты, но прежде он хотел укрепить мое здоровье.
Восьмого января я потерял сознание. Моя жена позвонила Шарме и сказала, что я брежу и, похоже, действительно плох. Он моментально приехал и оставался рядом со мной шестнадцать часов, пока опасность не миновала. Я не мог говорить ни с ним, ни с кем-нибудь еще, так как был отделен от своего тела. Все, что я говорил или делал, было вне связи с моим сознанием. Я осознавал присутствие Элизабет, но не мог сделать ничего, чтобы успокоить ее.
Затем я испытал один из самых важных и поучительных опытов. Я полностью осознавал, что моя кровь отравлена, и, в случае, если концентрация яда достигнет определенного уровня, мозг будет разрушен, и я больше никогда не смогу общаться с людьми. Я знал, что умру не сразу, но некоторое время пробуду в состоянии полной имбицильности, по крайней мере, на взгляд других людей. Но я также ясно и определенно знал, что «Я» не имеет к этому никакого отношения. «Я» останется свободным, и в некоторые моменты с ним даже можно будет общаться. Я то и дело пытался произнести что-нибудь успокоительное для моей жены, но был полностью беспомощен. Я говорил, но это был не «Я», кто говорил. Я понимал, что доктор Шарма что-то для меня делает, но даже не мог открыть рот, когда он просил меня об этом.
Это состояние длилось много часов, может быть, двадцать, и все это время я подвергался опасности быть необратимо поврежденным. Несмотря на это, я был наполнен радостью и уверенностью, так как знал, что могу потерять не только свое «тело», но и «ум»,и при этом останусь «собой».
Оправившись от острого состояния, я шесть недель ждал операции. Мы купили коттедж в Спаркфорде в Сомерсете, в течение столетий бывший частью фамильной недвижимости Беннеттов, а в 1919 году проданный другим людям. Там я поправлялся полвека спустя после последней серьезной операции после ранения во Франции. В моей жизни как бы завершился некий большой цикл. В марте 1919 года я впервые понял, что могу быть вне своего тела, теперь я понимал, что могу обойтись и без ума. Можно было находиться в состоянии «чистого видения», лишенного каких-либо ментальных процессов и внешних проявлений. Это состояние вне времени и пространства, точнее вне условий времени и пространства: не «здесь» и не «там», не «теперь» и не «тогда». После такого откровения о «делах» думать не хотелось. Хотя, благодаря Шарме, я поправлялся чрезвычайно быстро. Силы вернулись ко мне, и я был полон энергии.
Я вернулся к делам компании и год боролся за то, чтобы она твердо встала на ноги. Я мог бы рассказать об этом подробнее, хотя бы потому, что мы установили связи с некоторыми крупнейшими мировыми корпорациями. Однако это не относится к главной линии моей жизни, и я сразу перейду к июлю 1970года. К тому времени я понял, что должен либо посвятить делу еще несколько лет, либо передать его другим. Нам представилась превосходная возможность продать наше дело другу, председателю очень успешной компании, согласившейся нас купить и руководить со всем опытом, которого нам явно не хватало. Освободившись, я мог бы вернуться к моим книгам, но возможность использования оборудования, изобретенного нами для обучения, была бы утеряна, так как новые хозяева интересовались индустриальными взаимоотношениями, а не образованием. Поскольку восемь лет назад я вкладывал в проект именно образовательный смысл, продажа казалась предательством нашей сокровенной цели.
Тут я был приглашен в Америку Саулом Кушинским, главным управляющим отделения электронной продукции корпорации Барроу. Он снимал замок в Нью-Джерси, где я проводил семинар по Систематике, на который приехали несколько известных бизнесменов и инженеров, включая Уоррена Ависа, основателя Американской лаборатории поведения, и Энн Арбор из Мичигана. Двух дней мне не хватило, чтобы представить Систематику в полной красе. Несмотря на это, слушатели всячески проявляли свой интерес. Стоящую технику («Разделенное участие») я перенял у Уоррена и с тех пор применял в своей работе. Вернувшись в Европу, я еще сильнее, чем раньше, колебался, что делать дальше. Две встречи с группами очень молодых американцев представлялись мне очень важными. Одна группа состояла из хиппи, другая -из состоятельных студентов колледжей. И те, и другие казались страстно заинтересованными в идеях работы и уверяли меня, что, приехав на год в Бостон или Нью-Йорк, я найду тысячи последователей. Позднее некоторые из них присоединились к группе, работавшей с Полом и Наоми Андерсон.
Нужно было сделать выбор. В сентябре я отправился в Св. Вондрилл помолиться в тишине и одиночестве и попросить руководства. Решение не могло быть обосновано разумными доводами, так как для каждого из направлений не было достаточных оснований. Произошло непредвиденное. Я получил указание настолько четкое, насколько это возможно от голоса, всегда говорившего в моей груди в критические моменты: «Ты должен основать школу». Он прозвучал во время заутрени, когда я читал 94 псалом «Si vocem ejueaudeteris, nolite obdurare corda vestra» «О, если бы вы ныне послушали гласа Его: «Не ожесточите сердца вашего» и раздумывал скорее над недостаточной благодарностью за то, что я уже получил, чем над тем, что же мне делать дальше. Вначале я счел это указание относящимся к образовательному проекту, но вскоре понял, что призван начать совсем новое дело. Весь день я провел в медитациях и молитвах и вспомнил, как в 1923 году Гурджиев сказал, что однажды мне предстоит пойти по его стопам и продолжить работу, начатую им в Фонтенбло. Я вновь пережил те утренние субботние часы перед его смертью и его слова: «Ты. Только ты сможешь отплатить за все мои труды». Двадцать один год я сознательно отказывался от роли лидера или учителя. В Кумб Спрингс я вещал от имени Гурджиева, Субуха или Шивапури-баба. Я прятал собственный авторитет за их цитатами. Я знал, что это было не из-за трусости, а потому, что мое время еще не настало.
Но вот наступил нужный момент. Теперь я должен был стать не дельцом и не писателем, но основателем школы. Почему школы? Этот вопрос, который в 1932 году Кришнамурти задал Успенскому, сейчас встал передо мной с требованием немедленного ответа. «Потому что люди должны быть готовы к проблемам, ждущим их впереди». Затем возникло осознание важности «Четвертого пути». Передо мной стоит задача, и я должен подготовить людей, могущих мне помочь. Школа должна была стать школой Четвертого Пути.
Я имел определенный опыт обучения. Центры непрерывного образования были в Prieure, Гадсдене, Лайн-Плэйс, Франклинских фермах, Кумб Спрингс. Пятьдесят лет я занимался различной групповой работой, когда люди встречались раз в две недели, еженедельно или даже чаще, но никогда не жили вместе и не работали под непрерывным наблюдением учителя. Я видел пути с заложенной в них способностью к росту, как Субуд или
Трансцендентальная Медитация. Я наблюдал жизнь и работу в бенедектинском монастыре Св. Вондрилля. Я кое-что знал о дервишеских общинах в Азии.
Но сейчас требовалось нечто иное. Если я хотел сделать действительно нечто полезное, это должно было отличаться от всего перечисленного. Я вспомнил, что Гурджиев всегда обучал людей в течение ограниченного времени, а затем отсылал их прочь. Даже в расцвете в 1923 году его Институт в Фонтенбло был не больше чем эксперимент. Он слишком был занят добыванием денег, чтобы отдавать все силы ученикам. За редким исключением ни один из его методов не применялся достаточно долго, чтобы принести ощутимые результаты, и даже в показательных движениях, подготовленных для визита в Штаты в 1924 году, демонстрация преобладала над внутренней работой.
Для достижения лучших результатов я должен был полностью погрузиться в работу, собрать верных людей в нужном месте и с достаточным количеством денег. Я сказал себе: «Если высшие силы действительно этого хотят, они снабдят меня деньгами, местом и людьми».
Возвратившись в Англию, я обсудил проект с Михаэлем Франклином, председателем институтского совета. Без всякого видимого колебания он заверил меня в полной поддержке. Позже он признал, что и его посещала похожая идея. Вскоре в октябре на годовом собрании я заговорил об основании школы. Много было вопросов и сомнений, практически все они сводились к трем вопросам, мучившим и меня: «Откуда взять деньги? Где это будет происходить? Как найти людей, готовых год своей жизни отдать такому предприятию?» Я никак не проявил своего состояния, сказав, что, если Высшим Силам будет угодно, они все обеспечат.
Двадцатипятиление Иститута пришлось на апрель 1971 года. Я предложил, и все со мной согласились, совместить празднование юбилея с основанием новой школы в Кингстоне, где я собирался начать вместе с двадцатью четырьмя учениками, хотя я полагал, что для настоящей школы необходим более близкий контакт с землей, чем это было возможно в городе. Незадолго до юбилея у меня было шестеро кандидатов и предложение от Лили Хеллыптениус, поддерживающей нас в течение двадцати лет, о возможном использовании или покупке ее дома. Я решил назвать школу Академией непрерывного образования, с одной стороны, подчеркивая ее платонические устремления, а с другой – направленность на обучение в течение всей жизни тех, кто будет в нее приходить.
Почетным гостем был мой друг и издатель Пол Ходдер Уильяме. Около трехсот гостей собралось в бальном зале гостиницы Св. Эрмина. Целый день проходила конференция по теме «Человек в целом». Перед ужином я коротко заявил о создании Академии. Ее приняли на «ура». Не было прессы, газетных статей и шумихи. Мы все еще нуждались в людях, месте и деньгах.
Затем в результате особых совпадений, включая знакомство с выдающимся молодым американцем, членом Американского молодежного движения, и помощь моих друзей в США, я был приглашен прочитать лекции в различных центрах. Был уже май, занятия в университетах заканчивались. Мог ли я собрать аудиторию без рекламы? Я решился и отправился в Бостон, где меня встретили старые друзья Пол и Наоми Андерсоны и члены их группы, собравшейся после моего первого визита в 1970 году. Лекции прошли в Гарварде и Кларкском Университете, Ворчестере, Массачусестсе. Я раскритиковал образовательную систему в мире, подчеркивая, что она никоим образом не готовит людей к опустошительным изменениям, надвигающимся на мир, и назвал Академию экспериментальной, с совершенно новым подходом к «Человеку в целом». Я пригласил тех, кто был готов приехать и трудиться в поте лица в течение года, подойти ко мне после лекции. Отклик изумил меня. За два дня набралось тридцать хороших кандидатов.
Я позвонил Элизабет и сказал, что нам нужен очень большой дом. Она как раз осмотрела Шернбурн-хаус, бывшую школу для ста сорока мальчишек, с прекрасными садами и полями. Он находился в сердце Котсволдских холмов, в одной из английских провинций, известной своей красотой. Я велел ей взяться за дело и выяснить, можем ли мы купить его.
Из Бостона с Карлом Шаффером я отправился в Нью-Хэмпшир и выступил в Государственном Франконийском Колледже, что принесло еще двоих кандидатов. Затем в Сан-Франциско, Беркли и штате Сонома. Перед отъездом из Калифорнии Академия была укомплектована семьюдесятью двумя кандидатами: я полагал, что это максимальное количество, которое я могу принять. По приглашению Ирвинга Кахана я побывал в Св. Луисе и выступил в Вашингтонском Университете. К тому времени почти все студенты были на каникулах, но несмотря на это прибавилось еще несколько превосходных кандидатов. Наконец, в Нью-Йорке я выступил в Готэмском Книжном Торговом Центре по доброжелательной рекомендации Фрэнсис Стелов, выглядевшей молодо в свои восемьдесят пять лет.
Приехав в Англию, яподвел итоги: у меня оказалось достаточно денег, чтобы купить Шернборн-хаус, и девяносто кандидатов на первый основной курс. Высшие Силы с лихвой исполнили свою роль. Никогда в жизни со мной не случалось ничего подобного. Обычно возможное облекалось трудностями. Теперь невозможное совершалось легко.
15 октября 1971 года состоялось открытие Академии. Я ничего не готовил и не планировал. Рядом была Элизабет, уверенная, что все будет хорошо, и трудившаяся, не жалея себя. Я пригласил старого друга и помощника Джона (Дика) Холланда. Анна Дарко должна была обучать движениям. Гилберт Эдварс позаботился об устройстве дома, и это было все. 7 сентября мы въехали в Шернборн-хаус и в течение пяти недель чинили, украшали, восстанавливали отопление, обновляли древнюю кухню, купили и расставили мебель и избрали секретариат. Сам же я не делал ничего, даже письма за меня писал секретарь.
Теперь все шло так, словно было предрешено. Курс сам наполнился студентами. Многообразие идей и техник, собранных мной за пятьдесят лет, дождались нужного применения. За плечами был двадцатипятилетний опыт Кумб Спрингс и семинаров и летних школ. Но, будучи во всеоружии, я, да и все мы, были потрясены скоростью, с которой развертывались события. Сама абсурдность нашего окружения являлась потенциальным фактором появления ощущения обреченности на успех. Какое-то время, пока не заработала большая кухня, мы готовили на сотню человек на разбитой электрической плите, купленной за пару фунтов. Запах краски пропитал все комнаты и коридоры. Центральное отопление постоянно ломалось и зачастую не было горячей воды, просто чтобы помыться. Комнаты были холодными, сырыми и почти без мебели.
В этих условиях мы усердно работали над гурджиевскими движениями. Без устали пропалывали огород от сорняков в то время, как голуби и кролики поедали растущие там овощи. Многим студентам высшие устремления не мешали жаловаться на плохие условия жизни и еду. Первая беседа, которую я с ними провел, касалась «нравится – не – нравится». Я говорил, что невозможно начать, не освободившись от реакций типа «нравится – не – нравится», желания и отвращения.
Как обычно, я переборщил. Работая в саду и увлекая молодежь, я заработал себе грыжу и был вынужден уехать на две недели на операцию. Я смог побыть наедине с собою и увидеть, что моя жизнь изменилась, потому что изменился я. Я общался с Высшей Мудростью, и это общение было действительно взаимным. Я мог попросить помощи и руководства и получить их. Я никогда не оставался один со своими сомнениями. Мои собственные слабости и глупость больше не имели значения. В бреду, год назад, я понял, что могу обойтись без ума. Теперь я осознал, что могу быть собой, несмотря на свой ум. Поскольку работа больше не зависела от моей способности ее делать, я мог быть уверен в ее успехе.
К Новому году я понял, что мы действительно продвигаемся вперед. 13 января 1972 года мы отмечали 95-ую годовщину со дня рождения Гурджиева большим праздником, произносили тосты “за идиотов”, совсем как в Фонтенбло сорок девять лет назад. По субботам у нас установились дни для посетителей, мы показывали движения и учились объяснять гостям, что они обозначают.
В апреле 1971 года в Шернбурн приехал Хасан Шушуд. Ему нравилась английская провинция, и он был рад встрече со мной, но не ожидал увидеть столько студентов и не видел смысла в моей деятельности. Он настаивал, что моя роль гораздо больше учительской. «Ты выбран одним из немногих, -говорил он, – «предназначенных пройти весь путь освобождения от обусловленности существования. Твой дом – абсолютная пустота». Я вспомнил слова Гурджиева в Виши в августе 1949: «Теперь у тебя есть Рай, но не останавливайся, пока не достигнешь Солнечного Абсолюта».
Я беседовал с Хасаном каждый день, в отличие от его предыдущего пребывания в Кингстоне. Через несколько дней у меня начались видения, и я стал слышать голоса. Последние, как правило, говорили по-английски, хотя иногда и по-турецки. Я убедился, что раньше жил в Центральной Азии во времена КхвайяАбейдаллаАхрара, и спросил Хасана, как так могло случиться, что я родился столь далеко от истинной родины. Я всегда в Азии чувствовал себя как дома, а в Европе – чужестранцем. Он ответил: «Ветер разносит семена по всем континентам. Сейчас ветер дует в сторону Англии. Поэтому ты и родился здесь». Через неделю, познакомившись со всеми студентами, а с некоторыми поговорив наедине, Хасан изменил свое мнение о них в лучшую сторону и объявил, что кое-кто из них может стать помощником. Он также увидел смысл в моей системе обучения. Ранее он настаивал, что все, что нам нужно, это голодание и зикр, включая контроль дыхания. Теперьже он находил мой способ идеальным для настоящего времени и западных людей. Я не должен был разочаровываться столь небольшим количеством студентов с высоким потенциалом. Такие люди редки. За всю свою жизнь он встретил только двоих, продвинувшихся дальше начальных этапов. Одним был я, а вторым – турецкий врач, живший в Детройте. Но даже тот был ограниченным, так как слишком зависел от телесного аскетизма.
Несколько студентов подошли ко мне и попросили объяснить его заявления. Он сказал им, что я первый европеец после мастера Экхарта, проникший в тайну Абсолютного Освобождения. Я рассмеялся и заметил, что нужно верить только тому, в чем они сами убедились. Как они могли вообразить, что могут осознать реальность несуществования? Хасан был для них крепким орешком, но его присутствие вызывало глубокое ощущение реальности Необусловленного Мира.
Тем временем постоянно поступали заявления на следующий год. Мы попытались купить величественный Стэйбл-блок, памятник викторианской архитектуры. Лорд Шернбурн отказался продать его, но сдал в аренду большой участок земли, а также сады и коттеджи, существенно улучшившие наши условия проживания. Строительными работами занималась группа студентов, которая приобрела потрясающие навыки в укладке камней и других строительных работах.
В последние недели курса я дал всем студентам задание научить друг друга тому, что они узнали в Шернбурне. Я объяснил, что по-настоящему мы владеем только тем, что в состоянии разделить с другими, а отдача является завершающей процедурой получения. Я хотел, чтобы, вернувшись, они собрали собственные маленькие группы и передали им те знания, которые они получили. «Пока мы помним, – сказал я, – что не можем ничего понять и сделать в нашей обусловленной природе, мы защищены от глупой мысли, что чем-то лучше тех, кого учим».
Провожая их по окончании курса, я переживал потрясение – так много произошло со столькими людьми сразу. Те, кто в начале выглядели хотя бы обещающими, оказались выдающимися. Несмотря на это, должен признать, что они все еще продолжали жить в обусловленном мире материальных объектов, чувственных восприятий и мыслей. Никто не увидел больше чем проблеск Необусловленного. Осознавал я и свои ошибки. Слишком много времени было потрачено на лекции и другие занятия, дающие пищу уму, но не затрагивающие сердце.
Действительно ценным оказалось упражнение «принятия решения». Это моя собственная адаптация техники, случайно подсмотренной у Гурджиева, к которой он опять-таки случайно обращается в третьей серии своих работ «Жизнь реальна только тогда, когда «Я Есть»». Здесь я не привожу ее описания, поскольку эффективная передача возможна только при личном взаимодействии учителя и ученика.
Закончив курс, я с Элизабет и девочками отправился в Турцию, где встретил не только Хасана, но и Хаджи Музаффера, шейха халветских дервишей Кхалка, текка которых находится в Истамбуле рядом с Валенским водопроводом. Я был очень рад, что суфизм восстановился в Турции со времен Менедеров. Теперь там можно не только найти, но и быть принятым настоящим шейхом. Я понял также, насколько больше мы имеем у нас, в Шернбурне, где собраны идеи и методы со всех уголков света и имеется набор техник, позволяющих достичь быстрого прогресса всем, кто хочет работать.
Сейчас подходит к концу второй курс, и даже быстрее, чем в прошлом году, собираются кандидаты на 1973-74 год. Это происходит без всякой рекламы, в основном за счет впечатления, которое прошлогодние студенты произвели на членов своих семей и друзей. Я объявил, что буду проводить курсы до 1976 года, всего пять курсов. В 1976-77 я намереваюсь собрать тех, кто оказался способным передавать полученные знания и навыки и готовым идти вперед.
В июне 1972 года открылась еще одна грань моей жизни. Валя Анастасьев, племянник Гурджиева, попросил меня помочь его семье разрешить спор с издательством «Янус», которому Гурджиев доверил публикацию своих книг и музыкальных произведений. Родная сестра Гурджиева умерла несколько месяцев назад, остались только его четыре племянницы и сам Валя. Они были очень огорчены отказом «Януса» опубликовать третью серию гурджиевских книг и невозможностью сделать большее по распространению его музыки и танцев. Я был счастлив возобновить близкие отношения с семьей Гурджиева, особенно с теми, кто жил в Париже в 1948 и 1949 году. Все они обладали глубоким пониманием человеческой природы и большим разнообразием навыков и умений. Эти черты, важные для выживания во враждебном окружении, показательны для гурджиевских методов обучения. Насколько это возможно, я применял их и в Шербурне.
Выяснилось, что семья обратилась ко мне с целью получить мою помощь в опубликовании «Жизнь реальна только тогда, когда «Я Есть» согласно пожеланиям Гурджиева, высказанным в предисловии к последней книге. Положение было довольно деликатное, так как я не принадлежал к «ортодоксальной» группе последователей Гурджиева, которые всеми силами сохраняли его учение «без изменений и дополнений». Напротив, я сам искал и нашел новые идеи, новые методы и даже новых учителей. Некоторые из учеников Гурджиева были крайне шокированы моим предположением, что Пак Субух может быть «тем, кто придет», как говорил Гурджиев в 1949 году. Я никого не обвинял за непринятие моих идей и не хотел обострять ситуацию, принимая на себя огромную ответственность редактирования третьей серии. Однако, взглянув надело более пристально и посоветовавшись с некоторыми из старших учеников во Франции и Соединенных Штатах, я почувствовал, что могу погасить вражду, пылавшую столько лет. Я был убежден, что к семье Гурджиева относятся несправедливо, но и они, со своей стороны, не принимают искреннее желание последователей Гурджиева поступать, с их точки зрения, правильно. Лучше всего было бы принять на себя редактирование и найти издателей.
Редактирование третьей серии открыло для меня некоторые важные моменты учения Гурджиева. Семья попросила меня включить в книгу лекции Гурджиева, которыми он, возможно, и планировал дополнить третью серию, но не сделал соответствующих распоряжений. Возник вопрос, с какой целью Гурджиев писал свои книги, а это, в свою очередь, требовало ответа, чему вообще была посвящена его жизнь. Я раздумывал над этими вопросами, пока писал биографию и критическое исследование гурджиевских работ, заказанное издательством «Turnstone Books». Я начал эту работу как раз перед торжественным открытием Академии. Эту задачу я рассматривал как шаг на пути выполнения обещания, которое я дал Гурджиеву в конце его жизни о том, что сделаю все, что в моих силах, для распространения его идей по всему миру.
Я пришел к выводу, что Гурджиев был больше, чем Учитель, но меньше, чем Пророк. Он был человеком с миссией, и всю жизнь посвятил ее выполнению. Ему нужны были люди, которые поняли бы его послание, хотя он и сделал все, чтобы запутать и затруднить его понимание. Так, он искал людей, достаточно настойчивых, могущих сделать своей единственной целью дальнейшее продвижение его работы. Сегодня, двадцать четыре года спустя после его смерти, в мире найдется тридцать-сорок человек, способных передавать его учение. Наступает время пойти дальше и выявить основу этого послания, так что мы должны быть готовы пожертвовать нашими ограниченными точками зрения и позволить возникнуть более значимому образу. Это займет несколько лет, причем нельзя терять времени, так как события буквально надвигаются на нас. Я пишу так, словно бы буду все еще жив через пять, десять или двадцать лет. Кто знает? Продолжительность человеческой жизни – предмет малоизученный. Легко убедиться, что некоторые люди стареют гораздо медленнее, чем другие, и что нет никаких явных причин для того, чтобы здоровые мужчина и женщина не жили сто и более лет, и что в общем мы начинаем кое-что узнавать о геронтологии. Совершенно не изучен вопрос, может ли человек, достигший самореализации, жить столько, сколько пожелает. Я знал Шивапури-баба, полностью сохранившего свои силы и способности в возрасте ста тридцати шести лет. Я знавал турецкого гамала с подлинными документами, свидетельствующими, что он родился в 1776 году, за 12 лет до Французской революции. Двигался он медленно и слышал плохо, но у него не было никаких признаков старческого слабоумия. Гурджиев считал продолжительность жизни одной из главных проблем человека. Человек должен иметь возможность жить настолько долго, насколько это необходимо, чтобы выполнить свое предназначение на этой земле – построить высшее тело бытия и достичь «требуемой степени объективного смысла».
Что касается меня, я уверен, что смерть – явление обусловленного мира. «Выживание», или «жизнь после смерти», также является обусловленным состоянием и не очень-то привлекательным сном без пробуждений. Чтобы пробудиться, нужно тело, а откуда же оно возьмется!
Путь реальности ведет не в будущее, а за пределы и пространства и времени. Стоит понять эту простую истину, как жизнь и смерть приобретают совершенно другое значение. Жизнь и смерть, время и пространство не прекращают существовать, но само существование представляется миражом.
Да, есть человеческий мир с его затруднительным положением. Тем не менее, для человечества будущее достаточно реально. Нельзя повернуться спиной к нуждам мира, особенно, если, по нашему мнению, они имеют значение в большем масштабе, чем только для этой планеты. «Сознательный труд и намеренное страдание» предназначены для тех, кто может сеять семена нового века. Миру нужны, и очень нужны, люди, достигшие внутренней свободы, живущие и любящие непредвзято. Я надеюсь и хочу, прежде чем покинуть этот мир, помочь многим людям найти собственный путь.
Больше семидесяти лет назад я начал задавать вопросы и запоминать ответы. Я спросил мать: «Почему мы не видим Господа?», на что она ответила: «Думаю, он не хочет, чтобы мы его видели». Тогда этот ответ меня не удовлетворил, но теперь мне не нужно большего. Я могу понять, почему некоторые тайны должны остаться тайнами и почему другие должны быть раскрыты. Я убежден, что в мире действует Сила Провидения, но она не может помочь нам без нашего вовлечения. Я заканчиваю это издание «Свидетеля» той же цитатой Гурджиева, что и первое: «Две вещи на земле безграничны: глупость человека и милосердие Бога».
Использованы материалы: http://book-va.com/hudbooks/biografybooks/1533-svidetel-ili-istoriya-poiska.html