Борис Асафьев РУССКИЙ РОМАНС XIX ВЕКА (1928) [55] Истоки русского романса до сих пор не изучены и с трудом поддаются изучению. Во второй трети XVIII века их надо искать в зарождавшемся музицировании в придворных и барских петербургских кругах. Здесь сплетаются сложные влияния: с одной стороны, великорусская и украинская песня соперничают друг с другом, с другой — через нарождающуюся оперу, особенно французскую комическую, все сильнее и сильнее проникают иноземные мелодические течения и происходит постепенное всасывание европейского мелоса и поглощение его российской песенной культурой. Первые русские оперы конца XVIII века позволяют вскрыть опыты культивирования романса. Сперва робкие подражательные и резко разнящиеся от песни (протяжной и водевильно-куплетной) и от светских кантов, они постепенно получают свой отпечаток и превращаются в новый своеобразный мелодический сплав — в песенный романс или в романсного характера песню с инструментальным сопровождением. Сентиментальная пасторальная поэзия этой эпохи тоже содействует росту вкусов к «романсности». Первые сборники русских песен («Собрание русских простых песен с нотами» В. Ф. Трутовского, выходившее в Петербурге выпусками — четыре части с 1776 г., «Собрание народных русских песен с их голосами» Прача—1790 г. и т. д.) тоже должны рассматриваться в виде первоистоков русского романса, поскольку здесь вовсе нет ни музыкально-этнографических целей, ни музыкально-эстетических намерений (отбор тематических красивых песен), а только — первые опыты приспособления бытующих в столице, излюбленных в салонах и в домашнем кругу песен, [56] к усваиваемым начаткам европейской музыкальной культуры. Это приспособление создает особенный камерный вокальный жанр — песни с сопровождением[1]. На ней здесь останавливаться не придется, так же как не придется останавливаться на всех проявлениях романсного творчества композиторов, имевших некое обобщенное лицо и стиль без резких индивидуальных отличий. Эти [57] отличия были тем меньше, чем ближе автор музыки стоял к быту и бытовому (домашнему) музицированию средних и низших слоев городских слушателей. Характерно, например, что талантливый Алябьев то предстает в свете своей индивидуальности и говорит оригинальным языком, то пользуется общими ходячими фразами, реминисценциями и банальными оборотами, свойственными многим его современникам, то вновь свежеет, «опускаясь» к народно-песенному или цыганскому пошибу. Все это происходит от того, что в силу малой устойчивости своего дарования он сочиняет, инстинктивно подчиняясь нажиму вкусов окружающей среды («музыкальная мимикрия») и господствующим в быту музыкальным диалектам. Зато как удобно прослеживать на его романсах и влияния, и трансформации напевной романсной и песенной ткани (возникающие и отмирающие пласты интонаций), и стилистические курьезы, и неожиданные открытия. Но что говорить об Алябьеве, [58] когда мы видим у Глинки, как тускнеет его индивидуальность и обобщается его язык при соприкосновении, скажем, с господствовавшим тогда русским бытовым романсом сентиментального грустного склада или с южноитальянской народной песнью и как, наоборот, вырастает эта индивидуальность в художественно-индивидуалистических концепциях. То же и у Даргомыжского. Повторяю, на романсе «песенно-безличного» характера в указанном смысле здесь не придется останавливаться из-за необходимости сжать изложение. Но на историческо-социальную ценность подобного рода музыкального жанра указать необходимо. Музыка живет в быту. Композитор с яркой индивидуальностью, [59] с одной стороны, ведет искусство вперед, предугадывая его развитие, с другой же — «отлагает» в своем творчестве то, что уже отстоялось. Но не одними великими композиторами и виртуозами живет музыка. Она держится и существует ее звучанием (интонированием) во всех кругах общества и множеством «безымённых» ее сочинителей, отвечающих на потребности своего круга только тем, что они в своих произведениях «собирают» и фиксируют то, что нравится в данный момент данной среде. Тут почти отсутствует творческое изобретение, и тем не менее это сочинительство, преходящее и ненадолго кристаллизующее наиболее популярные интонации, тоже «делает» музыку, потому что именно тут, в гуще бытового музицирования (прибавим, очень консервативного) рождаются и умирают репутации композиторов-индивидуалистов, и тут строится база музыки и происходит накопление новых слуховых навыков и интонаций. [60] Возникавшие в этой «средней» городской среде во множестве романсы принадлежат иногда очень видным в свое время именам, но соотношение между индивидуально-художественным моментом в их творчестве и количеством «речений» общих у них с другими современниками позволяет причислить их к выразителям «бытового музицирования», а не к числу композиторов, ведших русский романс вперед и вперед. Сюда принадлежало много дилетантов из разных слоев общества, работавших не столько в сфере художественно-индивидуалистического романса, сколько для закрепления завоеваний больших мастеров и обогащения романса салонного и «домашнего». Число их все увеличивалось к 50-м и 60-м годам XIX века. После сказанного роль и значение тех песен и романсов, которые были дороги публике постоянным присутствием всем знакомых оборотов, а не новизной их, достаточно выяснены. С появлением в 1759 г. сборника Г. Н. Теплова (1711—1779) «Между делом безделье, или Собрание разных песен с приложенными тонами на три голоса» — можно говорить о зарождении русского романса или городской художественной песни. В последние десятилетия XVIII века уже встречаются самостоятельно сочиненные и ставшие популярными полупесни-полуромансы, вроде знаменитого «Стонет сизый голубочек» (слова Дмитриева). Такие песни-романсы сочиняли: Антон Фердинанд Гну (1742—1810), Федор Михайлович Дубянский, утонувший в 1796 г. в Неве (автор мелодии «Голубочка»[2]), Иван Гладкой, Иосиф Козловский (1757—1831), Даниил Никитич Кашин (1769—1841) и Алексей Дмитриевич Жилин[3] — деятельность троих последних переходит в XIX век. Имена многих авторов музыки романсов остаются [61] неизвестными. Аккомпанемент постепенно начинает преобразовываться — от гусельной, затем клавесинной к арфной и фортепианной и, наконец, уже к специфически фортепианной, более плотной фактуре. Позднее выступает гитара и вносит свои формулы сопровождения. Знаменитая музыкальная семья Титовых выдвинула троих пионеров русского романса: Николая Алексеевича (1800—1875), Николая Сергеевича [1798—1843] и Михаила Алексеевича (1804— 1853). Начавшие появляться в 20-х годах романсы Н. А. Титова указывают на сформировавшиеся уже главные качества напевно-сентиментального романсного стиля, отделяющегося от песни, но еще не вполне индивидуализировавшегося. Романтически-мечтательные сюжеты всего лучше удавались Н. А. и Н. С. Титовым («Уединенная сосна», «Коварный друг», «Лампада», «К Морфею», «Мечта любви», «Под вечер, осенью ненастной», «Талисман»). Фактура романсов чрезвычайно проста, но в ней ценно несомненное присутствие желания создать в сопровождении соответствующий настроению и смыслу текста музыкальный фон. Таким образом, мы имеем здесь уже дело с несомненным романсным стилем — соединение голоса с окутывающей его инструментальной сферой. В связи с этим уже у Н. А. Титова и современных ему композиторов стали вырабатываться определенные «штампы» аккомпанемента, для элегий — одни, для романтических баллад — иные, для серенад, баркарол, колыбельных и молитв — третьи и т. д. Во вступительных наигрышах стали стремиться выразить некий общий тонус романса (мастерство Чайковского в этом отношении имело ряд трудоспособных предшественников). Танцевальные ритмоформулы (вальс — особенно, галоп, полонез, позднее полька) приспособляются тоже в качестве устойчивого обобщающего фактора. У Титовых все эти нарождающиеся навыки и приемы только еще вырабатываются, ощупью и осторожно, и не всегда технически ловко. Нередко, впрочем, можно встретить совмещение общеупотребительной окристаллизовавшейся формулы аккомпанемента с наивно-свежей фразировкой текста и наивной же мелодией. Более уверенной рукой и уже со «штампованными» приемами и с общими местами сочиняют романсы Верстовский (знаменитая когда-то его «Черная шаль» не отличается свежестью изобретения) и Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856). Как и его брат — виолончелист Матвей Юрьевич (1794—1866), Михаил Юрьевич был просвещеннейший для своего времени музыкант-дилетант, салон которого в 40-х годах был средоточием художественных интересов столицы (через этот салон прошли Берлиоз, Лист и Шуман). М. Ю. Виельгорский заметного вклада в русскую лирику не сделал: популярнейший его романс «Бывало» (текст Мятлева) в достаточной мере монотонно-сентиментален. Но как на нем, так и на Верстовском любопытно прослеживать ход и характер влияний: чем менее индивидуален композитор, тем [62] в более «сыром» виде попадают в его ткань различные куски различной бытовавшей тогда музыки. В «Черной шали» Верстовского налицо уже романтический пафос и балладный возбужденный колорит. Но самой крупной и выдающейся фигурой в области романса 20-х и 30-х годов был Александр Александрович Алябьев (1787— 1851). О его музыке было сообщено достаточно. По своему значению творчество его требует все большего и большего повышения в своем «ранге» и тщательного исследования; известная работа об Алябьеве Григория Тимофеева (М., 1912) не исчерпывает всего материала и не исследует музыкально-интонационного содержания в связи с его истоками. Варламов, Александр Егорович (1801—1848)—выдающийся преобразователь романсной мелодики — достигает умения компоновать плавные, округлые и гибкие линии. Мелодии Варламова «глубокого дыхания», разнообразны и пластичны, даже упруги и характерны. Это уже русская бытовая кантилена, достигающая плавности и протяженности напева («Красный сарафан») и последовательности его развертывания. Но при всем том Варламов неподвижнее и «туповатее» Алябьева. Его «реакции» на текст медлительнее и обобщеннее, чем нервная и подвижная «хватка» поэтического смысла Алябьевым. Таким образом, выигрыш в одной области уравновесился потерей в другом отношении. Декламационные элементы у обоих еще слабы и почти не дифференцировались. Гурилев, Александр Львович (1803—1858) пассивнее, мягче и ограниченнее в интонационном отношении, чем Алябьев и Варламов. Отпечаток красивой элегичности и лукавый юмор («Сарафанчик») присущи его лучшим романсам. Его романсы — песенны, в смысле очень удачного приспособления к чисто народным интонациям. Знаменитая же мелодия романса «Матушка-голубушка» (как и мелодия варламовского «Сарафана») является замечательным примером происшедшего слияния западноевропейской архитектоники развернутого периода с русской напевностью и широкоохватностью протяжной песни. Гурилев издал, кроме романсов, переложения русских песен (тип народной песни с сопровождением или в свободном пересказе). К середине XIX века образуются прочные стилистические традиции в области непосредственно бытового, приспособленного для домашнего музицирования романса: братья Булаховы, Вильбоа (1817—1882), Аишин (1854—1888), Донауров [1838—1897], Дютш (1825—1863), наконец, подававший большие надежды Пасхалов (1841—1885) являются наиболее сильными представителями этого жанра, чутко реагировавшими на эмоционально-музыкальные запросы окружающей среды. У Петра Петровича Булахова есть гармоническое чутье и вкус к красивой рельефной и выразительной мелодической линии. Правда, он ухитряется зато формулу меланхолического вальса пристегнуть к тексту [63] вроде: «Со кручинушки шатаясь, выйду ль в сени постоять…» и назвать это — «русская песня». Но в конце концов можно и это ему простить: он любит, по-видимому, вальс и неплохо пользуется вальсовыми оборотами и ритмами. Мотивы старинных цыганских романсов переплетаются у Булахова с оперно-итальянскими и русско-песенными. Но надо помнить, что, изучая эту область, мы находимся в самой лаборатории интонаций, среди пестрого сплава, а не на вершинах искусства, где уже произведен отбор. Вильбоа оставил по себе память в виде дуэта «Моряки», жившего очень долго. Историки-эстеты очень легко отделываются от любимых публикой и популярных вещей словом банально. Но это только слово. На самом же деле, ставшее популярным (иногда одно на пятьдесят) и укрепившееся в быту сочинение «среднего» композитора всегда заключает в себе ответ на живую потребность и содержит в себе нечто жизненно ценное при всех своих стилистических несообразностях и неправильностях. Ведь так бывает на каждом шагу и в живой человеческой речи! Дуэт «Моряки» при всей дешевизне материала и ритмической парадоксальности (ритм полонеза при тексте: «Нелюдимо наше море») верно и метко преломлял для большинства людей романтическую идею странствования, влечения вдаль с контрастными переходами от бурного порыва к сладкой мечте и т. д. В динамике музыки «Моряков» все это было и чувствовалось, и недаром этот дуэт долго не уходил из репертуара и домашнего и мелко-концертного. Точно так же некоторые романсы Донаурова, Лишина, Пасхалова («Дитятко, милость господня с тобой») и Дютша (особенно его баллада «Новгород»). Надо понять, что очень часто на одни и те же общественные настроения разные композиторы отвечали различно в разных слоях общества, культурно не однородных. Очень немногим людям, например, был понятен Мусоргский со своей «Колыбельной» в «Песнях и плясках смерти» и подобными ей вещами, а его современник Пасхалов со своим «Дитятко» (мать у постели больного ребенка) нашел сочувственный отклик всей страны. Эстетически это, может быть, и неценно, но так как музыка прежде всего язык чувства для всех людей, подобное явление становится вполне понятным. И почем знать: не способствовало ли восприятие романса Пасхалова чуткому пониманию Мусоргского, когда его музыка, наконец, тоже дошла до широких кругов. Конечно, пасхаловский романс взят как подходящий пример из числа многих, а не как единственный самодовлеющий факт. Что касается меланхолично-сентиментального оплакивания судьбы великого Новгорода музыкой Дютша, то романс этот действительно отвечал романтическим чувствам загубленной жизни и потерянной свободы сотен людей — отвечал не хуже, чем для других людей на те же чувства дает свой отклик ария Флорестана в темнице в «Фиделио» Бетховена. На этом можно кончить краткий обзор песни-романса, стоявшего близко к домашнему быту. К тому же дальнейшие этапы [63] поддаются исследованию с трудом. С вырождением таборной цыганской песни, с исчезновением народных песенных элементов и широкой романсной кантилены к 90-м годам XIX века начинают играть роль романсы нового салонного пошиба (Блейхмана, например), в которых падает полнота жизнеощущения и пошлая сладостная чувствительность чередуется с ничем не прикрытой беззастенчивой чувственностью. Началось разложение музыкального салона и домашней музыки, и с каждым годом образовывалась все более и более широкая расщелина между вкусами музыкантов и немногочисленного меньшинства культурных любителей музыки и между вкусами высших и средних классов как знати, так и служилой интеллигенции. Процесс этот накануне революции привел к острой дифференциации вкусов даже внутри одной и той же общественной группы, но одновременно и к попыткам через исполнительство возродить интерес к прошлым эпохам романса, а через них и к заполнению расщелины и к внедрению во вкусы широкой публики лучших образцов старинной вокальной русской культуры[4]. Вернемся теперь к 20-м годам XIX века, к Глинке, и рассмотрим эволюцию художественно-индивидуалистического романса. Романсы Глинки — крайне важная и существенная область его творчества. Некоторые из них чрезвычайно быстро распространились в широких кругах общества, сыграли крупную роль в образовании вкусов и оказали влияние на композиторов. Значение их, прежде всего, в их мелодике. Глинке первому удалось достигнуть плавных, гибких, широкоохватных («широкодужных») и вместе с тем упругих и стройных мелодических контуров, сочетав в них напевность русского мелоса с западноевропейской (главным образом, итальянской) кантиленой. Стоит хотя бы только сравнить мелодию «Венецианской ночи» с оборотами итальянских — неаполитанских и венецианских народных мелодий и с лучшими кантиленами Беллини, чтобы оценить чуткость и удивительную способность Глинки к органическому синтезу. Европеизация русской мелодики сопровождалась у Глинки столь же талантливым усовершенствованием сопровождения. Остается ли оно общим «нейтральным» фоном для мелодии, чтобы не мешать свободе ее выражения («В крови горит»), или прерывает время от времени свою нейтральность, чтобы подчеркнуть характерные переломы в настроении («Я помню чудное мгновенье»), или резвится в пределах характерно-танцевального ритма («К ней», «Я здесь, Инезилья», «Сто красавиц светлооких»), или выступает наравне с голосом как симфонически выразительный или описательный фактор [65] («Ночной смотр»)—всюду это сопровождение является новым завоеванием, новым изобретением или гармоничным усовершенствованием достигнутого, в сравнении с предшествующими, даже удачными опытами. Еще надо указать на чуткость вкуса Глинки в отношении текста: умение облагородить плохие стихи, окутать их атмосферой музыки («омыть» в ней) — это одна сторона дела, но умение стать равным великому мастеру стиха (Пушкин) и не затушевать ни звучности, ни поэтической метрики — при постоянном, однако, преодолении схемы — это другая ценнейшая сторона его романсного мастерства. В лучших своих романсах Глинка гибко умеет связывать задушевную кантилену с полуречитативом, тонко и чутко их чередуя. Кое-где у него начинает сказываться влияние шубертовской Lied (в кадансовых и связующих оборотах). Диапазон «сюжетов», гамма чувств и их динамика крайне разнородны у Глинки, но его безупречный вкус и сдержанность большого мастера накладывают на все отпечаток высокого художественного сознания и артистизма, несмотря на страстный, чувственный или беззаботно-веселый характер некоторых романсов. Наоборот, именно культ любви, вина и дружбы — вольной артистической богемы делают то, что Глинка никогда не замыкается в эгоистический субъективизм. О личном он поет как о всем знакомом и понятном, его натура — открытая и душевная — не умеет быть вне компании и не в кругу друзей. Отсюда, «застольный» колорит, присущий многим его романсам, и среди них знаменитая «Прощальная песня». Даже мечтательность Глинки останавливается на пороге «размышлений уединенного романтика» и предполагает наличие сочувствующих людей. «Где наша роза?», «Финский залив» и «Жаворонок» при всем их стилистическом различии (лирический романс и лирическая песня) — прекрасные примеры мечтательного элегического настроения. Сильное чувство говорит в романтических элегиях: в шубертовской «Дубрава шумит» и в «Сомнении». «Сон Рахили» — мечта, становящаяся страстным переживанием, а «Песнь Маргариты» — глубокая женская драма. Великолепно пользуется Глинка ритмами марша для выражения поэтической идеи странствования, шествия к завоеванию, манящей мечты («Песнь Рахили» и «Virtus antique»), ритмическим колыханием баркаролы («Уснули голубые»), острой акцентностью мазурки («К ней») и испанского танца — все в целях большей рельефности эмоционального тона. Не менее мастерски он владеет характерной бытовой и жанровой песнью («Песнь Ильинишны», «Попутная песня») и романтической балладой с ее вспышками Sturm und Drang”a («Стой, мой верный, бурный конь»). Романсы Глинки—обширный мир эмоций и точка отправления для дальнейшей эволюции русской художественной камерной вокальной культуры. Каждый из них поэтому ценен и является типичным для предшествующих и последующих тождественных ему опытов. [66] По пластичности мелодики, ясности формы, определенности фактуры, по склонности к передаче чисто лирических состояний без характерологии к Глинке ближе всего стоит Балакирев[5]. Но, конечно, ему не хватает ни размаха, ни полноты эпикурейского жизнеощущения Глинки, ни искренней безмятежной преданности культу наслаждения и любви. Что было у Глинки непроизвольным и естественным, то теперь, в иную эпоху, становилось бледным или банальным. Таким образом, у Балакирева возникает противоречие между формальной стороной романсов с их глинкинской ясностью и уже не глинкинским жизневосприятием и эмоциональными состояниями. (Таковы «Обойми, поцелуй», «Когда беззаботно, дитя, ты резвишься».) То же впоследствии повторилось у Римского-Корсакова, когда он касался «эпикурейских тем». Но у Балакирева есть темперамент и страстность. Будучи постоянно сковываемы, они сообщают лучшим его романсам сильное напряжение (такова «Песнь Селима» — «Месяц плывет и тих и [67] спокоен», «Приди ко мне», «Грузинская песня» — «Не пой, красавица», а также фетовское «Шепот, робкое дыханье»). Пожалуй, только в одном романсе «Введи меня, о ночь» страстный нервный порыв до конца вырывается на свободу. Безусловно красивы лирико-созерцательные романсы Балакирева, в которых, если уже и поблекла глинкинская ласковая кантилена и несколько ослабло «большое дыхание» (длительность и широкоохватность мелодики), то все же сохранились чистые и гибкие мелодические линии («Взошел на небо месяц ясный», «Слышу ли голос твой», «Сон» — «Снилась мне девушка», «Песня золотой рыбки» и «Звено») в соединении с юношеской наивностью и свежестью чувства. Все эти романсы (кроме вышеупомянутого «Шепот, робкое дыханье») принадлежат раннему периоду творчества Балакирева. Сборники поздние (1896 и 1905) заключают в себе полноту зрелости и мастерства, но зато еще больше эмоциональной сдержанности и даже рассудочного холодка с придачей весьма выспреннего ораторского пафоса в романсах, трактующих философско- и религиозно-поэтические идеи («Беззвездная полночь дышала прохладой», «7 ноября», «Nachtstück»). Даже лучшие среди них (например, «Пустыня») носят отпечаток мелодической сухости. Обычно это — короткие фразы с упрямо отчеканиваемым каждым слогом на холодном нейтральном (хотя порой и пышном) фоне. Поэтический вкус Балакирева, ясная декламация и общая мерность и стройность его музыкального языка, можно даже сказать «звонкость» его интонаций, сообщающая еще более звучности звонким стихам, наконец красивое изложение сопровождения составляют ценные стороны его романсов. Это своего рода русский послеглинкинский академизм, выросший из естественного стремления закрепить и сохранить мастерство творца «Руслана». Нарушая несколько хронологическую последовательность, необходимо здесь же сказать, что в направлении, очень близком воззрениям, вкусам и композиторской технике Балакирева, шел его ближайший друг С. М. Ляпунов[6], отличный по своим способностям музыкант, крупный композитор, пианист, педагог и музыковед. В области романса Ляпунов оставил большое наследие. Это красивые и пластичные вокальные песни лирико-созерцательного [68] характера, безупречно скомпонованные и уравновешенные и так же эмоционально-сдержанные, как большая часть романсов Балакирева. Теперь русская жизнь пошла по другим путям, и творчество Ляпунова, благодушное, спокойное и мерное, осталось в стороне. Наиболее ценными по своей гармоничности и подкупающей стройности романсами Ляпунова являются цикл «Ночь» (ор. 50 на слова Голенищева-Кутузова), «Последние цветы» (Пушкин), «Зима» (Баратынский), «Тишина» (Гёте — Голенищев-Кутузов). Область романса и песни Даргомыжского, будучи не менее и даже более обширной по охвату разнообразнейших сюжетов, чем это наблюдается у Глинки, оказывается и более раскидистой и пестроватой. Это не упрек, потому что иначе Даргомыжский не сделал бы всего, что мог и должен был сделать. Выше были указаны причины, сделавшие стиль музыки и эволюцию творчества Даргомыжского неровными и вместе с тем характерно чуткими к жизни. Здесь повторяться не буду и прямо перейду к описанию свойств его вокально-камерной музыки. Распределить романсы и песни Даргомыжского по родам и видам немыслимо, настолько они перебивают друг друга своей «инакостью». Даргомыжский не чуждался ни жанра романтической баллады («Паладин») и фантазии («Свадьба»), ни красивой сентиментальной элегии («Я помню глубоко»), ни глубоко мечтательной эротики («Вертоград») и наивной мечтательной лирики («Не скажу никому»), ни драматического повествования («Старый капрал»), ни характерной песни («Баба старая»). Словом, он коснулся всех сторон поэтико-музыкальной культуры романса и песни, которые затрагивались в предшествовавшую ему эпоху и в его эпоху. Но благодаря тому, что он не «ушел», как Глинка, от творческого тесного соприкосновения с бытом Петербурга и жизнью, а также благодаря своей острой наблюдательности, соединенной со склонностью к критике действительности, ему удалось продвинуть все ранее достигнутое в широкие общественные слои и ответить на их запросы своей лирической песнью и романсом — уже несколько иными по материалу, по мелодическим контурам и эмоциональному содержанию, чем раньше. И не только это. Даргомыжский выступает как мастер нового стиля, как выразитель критического сознания на переломе от барской аристократической к «интеллигентско-разночинной» культуре. Поэтому он не может быть всегда гармоничным и благодушным, хотя и это ему иногда удается. Общему он предпочитает характерное, человеку — «титулярного советника», романтическому воину-рыцарю — «старого капрала», спокойному довольству и безмятежному наслаждению — суровость («Расстались гордо мы»), культу дружбы за кружкой вина и в кругу подруг веселых — юмористическую домашнюю ссору мельника с женой, идеальной любви — шутку («Каюсь, дядя, черт попутал»), юмор («Ой, тих, тих, тих ти») или горькую иронию «Червяка». В акценте на всем, что характерно, что сильно или, наоборот, что унижено, в юморе, иронии и даже сарказме, в гро- [69] тескных сопоставлениях как будто бы невинно-шутливого тона и простенькой фактуры с острой фразировкой Даргомыжский талантлив и оригинален как никто до него. Отсюда естественно, что забота о выразительности каждого слова, о декламационном рельефе, о правдивой передаче чувства не в обобщенной мелодической линии, а в каждом интонационном обороте, составляют главную заботу Даргомыжского. Нельзя считать, как это обычно делают, Даргомыжского более сильным в декламационном отношении композитором, чем Глинка. Такие речитативы, как Финна в «Руслане», или такая фразировка, как в «Ночном смотре» или «Песне Маргариты» и «Не говори, что сердцу больно», стоят не ниже декламационного мастерства Даргомыжского. Различие между композиторами в ином характере декламации, в иной фактуре, в ином тонусе и динамике романсной речи. Даргомыжский только частью принадлежит глинкинской эпохе, когда еще в искусство не ворвались диссонансы общественной жизни. Пусть салоны или музицирующие круги, в которых он вращался, были или старались быть аполитичными или вполне благонамеренными — жизнь вокруг уже становилась иной и ее восприятие не могло быть безмятежно гармоничным, потому что, повторяю, музыка — самый чуткий эмоциональный барометр. Кроме того, не может же тонко чувствующий и наблюдательный композитор не выразить различно переживания людей разных возрастов и состояний, когда на жизненной арене перестает быть на виду только один класс и когда на место женщины вообще как объекта наслаждения встает женщина — индивидуальная личность. Вот отчего такая глубокая разница между Антонидой и Людмилой Глинки и Наташей и Донной Анной у Даргомыжского. И так во всем. Историческая перспектива требует, чтобы при сравнении каждого великого мастера с его старшим или младшим современником, независимо от разницы талантов, обращалось внимание на главное: сколь сильны были перемены внутри социального порядка и в тонусе жизневосприятия за небольшой промежуток времени между началом и расцветом деятельности каждого из сравниваемых художников. Наивно, например, сказать, что комизм был чужд Глинке, зная его Фарлафа, но, конечно, последующая эпоха потребовала уже не только комизма, а гротеска, не смеха вообще, а карикатуры, не веселой улыбки над шутом и самохвалом, а горькой иронии над теми, кого уродливая жизнь заставляет юродствовать и чьи чувства она коверкает. Стоило русской музыке окрепнуть и перейти за пределы удовлетворения интересов и художественных вкусов ограниченного круга, стоило войти ей в середину, а потом и в низы русской общественности, как она сейчас же должна была отразить весь жестокий разлад между косностью и проснувшимися стремлениями к новой жизни. Даргомыжский успел коснуться этого частично. Мусоргский, шедший за ним, целиком принял на себя задачу воплощения в романсе состояний разлада, скорби и одиночества, [70] носителей юродства и унижения, невзгод тяжелой действительности и гротескного изображения всяких уродливых, косных и пошлых сцен и фигур. Поэтому в его искусстве все характерное, все рельефно-индивидуальное, все достойное глубокой жалости или злой издевки, выплывает на первый план. Драматургическое начало выступает также вперед, и романс расширяется до граней драматического действия. Даже темы (правда, теперь очень немногие) мечтательного и созерцательного порядка драматизируются и, так сказать, нервируются. Все оттенки юмора, от почти безобидной шутки до острой иронии и подчеркнутого гротеска живут в музыке Мусоргского, перемежаясь с глубокой задушевной лирикой, пронзенной чувством жалости к человеческому горю и униженности. О выразительности и правдивости интонаций в романсах Мусоргского говорить не приходится, поскольку об этом шла речь в связи с его операми. Там же были перечислены выдающиеся сочинения его в области камерной вокальной музыки — правда, все время выходящей за пределы камерности.[7] Мир детей («Детская») показан Мусоргским острее Шумана как реальный психологически самостоятельный мир маленьких людей. В «Песнях и плясках смерти» он создал три жутких момента умирания (пьяного мужика среди вьюги, ребенка и девушки) и апофеоз — торжество смерти в войне, вскрыв весь ужас ее пафоса. В правдивейшей повести о неудачнике («Калистрат»), в ехидном портрете «Классика», в жестокой издевке «Озорника», в карикатурном «Райке» (здесь музыкально-портретное искусство), в злой иронии песни «По грибы» — Мусоргский показывает себя как мастера рельефнейшей и выразительнейшей декламации. Вокальной линией он владеет в совершенстве, заставляя ее чутко отзываться на все стимулы, идущие от текста и от стремления к характерно-пластичному изображению действующих в романсе персонажей. Лирически-светлые настроения нашли свое отражение в очень немногих вещах Мусоргского — и лучшая из них: «По-над Доном сад цветет». Обычно же и в лирике Мусоргского звучат горечь, сострадание и ирония. Таковы колыбельная из «Воеводы» и «Колыбельная Еремушке». Богатство интонаций позволяло Мусоргскому воплощать самые разнообразные «речи», настроения и состояния: от «Сиротки» до «Савишны», от «Скучай» (в цикле «Без солнца») до «Горними тихо» — расстояния огромные. А еще не так давно влиятельные в музыке люди указывали на «однообразие» приемов Мусоргского, на то, что он «не развился», что он не был грамотным художником и отрицал искусство своим [71] признанием: «музыка есть средство беседы с людьми, а не цель». И это писалось про композитора, создавшего в большей части своих сочинений безусловно новые выразительнейшие звукосочетания и формы. Мусоргский боялся всяких штампов пустой риторики и разработок «не из чего» и видел художественное именно в передаче средствами музыки (но ее интонациями, а не в абстрактной архитектонике) всего многообразия эмоциональной жизни и даже характерного облика человека через «музыкализацию» жестов и движений. После этого нет ничего удивительного в том, что и Стасов и другие люди — и музыканты и любители, долго оставляли без внимания гениальнейший цикл Мусоргского «Без солнца»[8]. Здесь композитор уже изнутри, из опустошенной и тоскующей души своей, не нашедшей опоры в окружающей жизни, в сознании оторванности ото всех создал ценнейшую лирическую исповедь. В ней зазвучали еще неслыханные в то время мелодические и гармонические обороты, психологически обоснованные, а главное, выковалась свободная от всяких сковывающих предустановленных схем вокальная декламационная линия. Лаконизм описаний и характеристик, новизна фортепианного колорита и смелость кадансов, возникновение всей фактуры из эмоциональных предпосылок и смысла текста, а не из отвлеченных рассудочных построений и поэтому необычайное разнообразие звукосочетаний и постоянная изменчивость — вот свойства данного цикла вокальных пьес, которые переросли свою эпоху и все условные названия (песня, романс и т. д.). Размышления, признания, упреки, сознание одиночества, злые предчувствия, непонятные и неосознанные порывы — таковы темы «Без солнца». Уже самое задание — музыка, вызванная в тишине, ночью, среди безмолвия— привлекает и заставляет внимание настораживаться. И слух остается настороженным в течении всех шести пьес. Мусоргский добился здесь ощущения мрака, безмолвия и покинутости. Полный контраст нервному Мусоргскому — Бородин в своих немногих романсах. Каждый из них, как и у Мусоргского, представляет собою новое и неповторяемое «редкое явление». Трудно говорить об общем стиле всех их. Каждый имеет свой стиль. Баллада «Море» (1870) — возрождение романтической баллады, драматизированной и выигравшей от отсутствия элементов фантастики и приближения к образам реальной действительности. «Спящая княжна» (1867) — смелая и оригинальная сказка, в которой вдруг расцвела сочная живописная импрессионистская манера письма. «Песня темного леса» (из эскизов к «Игорю»)— мощное и веское, тяжелозвонкое произведение, архаическая суровость которого никак не вяжется с утонченной лирической [72] балладой «Морская царевна» (1868). «Отравой полны мои песни» — страстная во вкусе Гейне — Шумана и темпераментная вспышка. «Фальшивая нота» — сдержанный, но язвительный упрек. «Из слез моих много, малютка» — ироническая ласка. В целом эти вещи создают новый ярко эмоциональный жанр. Наконец, в 1881 г., как говорят, под впечатлением смерти Мусоргского, возникает единственная в своем роде во всей русской вокальной литературе античная по своей сдержанной, но глубокой печали, элегия Бородина «Для берегов отчизны дальной». Ее основная мелодия, начинаясь с повествовательно-декламационного тона, несколько раз поднимается и никнет, дойдя до вершины. Она звучит мерно и величаво, сквозь затаенные рыдания: так прощаются с близкими, стиснув зубы и напрягая каждый мускул на лице[9]. Полнота мироощущения Бородина сказалась в том, что ему равно были доступны области суровой скорби и легкой безобидной иронии и сочной остроумной шутки. Вокальный квартет «Серенада четырех кавалеров одной даме» — забавная пародия, нечаянно или нарочно высмеивающая изрядно опошленную авторами романсов популярную и любимую сторону романтической экзотики — «испанистость»[10]. «Спесь» и «У людей-то в дому» — две характерные русские юмористические пьесы принято почему-то считать слабыми, тогда как они очень выделяются среди многих жанровых сцен, эпизодов, анекдотов и повествований различных композиторов. «Спесь» — анекдотический марш с ритмическими перебоями. «У людей-то в дому» — песня по видимости своей шутливо-беззаботная. Но тем острее в ней «сравнение» двух глубоко различных «хозяйственных единиц»!.. Музыкальный вклад Бородина в область романса, количественно столь незначительный, по существу своему оказывается очень сильным, благодаря оригинальности и свежести каждого задания, а также новизне материала и приемов оформления. Рядом с насыщенностью немногочисленных вокальных пьес Бородина теперь совершенно теряется раскиданный во множестве красивых салонных романсов на самые различные тексты скромный талант Кюи[11]. Элегантность, гармонический вкус, изящество мелодики (в особенности, когда Кюи соприкасается с поль- [72] скими и французскими текстами) конечно не могут заменить отсутствия силы и характера, но в своей области—в области романса, родственного легкой и поверхностно скользящей салонной беседе — Кюи является несомненным мастером. Мало того, в лучшую эпоху своего творчества, во второй половине 60-х и 70-х годов, Кюи создал ряд романсов, в которых налицо и глубокое чувство и тщательный отбор выразительнейших интонаций. В конце 70-х годов в романсах на тексты Мицкевича сказываются самые привлекательные качества Кюи. Именно в соприкосновении с польским языком в его музыке пробуждаются наивность, неподдельность чувства и свежесть, если только не давят влияния (как, например, в романсе «Rezygnacja» — «Отчаяние» — «эхо» шубертовского «Двойника» в фортепианном сопровождении). В 1890 г. в цикле романсов на слова Ришпена (как и перед тем, в 1888—1889 годах в опере «Le Flibustier» — по драме того же Ришпена) уже на французской, а не на польской почве, талант Кюи обнаруживает свою сущность в родной ему области мелодраматического пафоса, сентиментального волнения и даже слегка экзальтации. Но все и всегда только на грани подлинного захватывающего чувства и страстности. Эта музыка напоминает светскую благотворительность: немножко сострадания, немножко слез и сочувствия к les pauvres gens, настолько, чтобы развлечься среди беспечной и сытой жизни, но не настолько, чтобы вполне отдаться какому-либо влечению, чувству или делу. Не только виноват здесь Ришпен с его словесной пылкостью и искусственным пафосом. При соприкосновении Кюи с Гюго и Мюссе — он тоже не может охватить глубокое в них и воплощает их стихи в таких же привычно изящных тонах красивого разговора. Лучше всего воздействует на Кюи соприкосновение с поэзией Мицкевича, о чем я уже говорил. С Гейне и с русскими поэтами (Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Майков, Ал. Толстой, Полонский и т. д.) дело обстоит хуже. Хуже в смысле стиля, так как Кюи, конечно, в тысячу раз стильнее в романсах на тексты Ришпена и уж никак не может вполне овладеть Пушкиным и особенно Некрасовым. Но в смысле некоторого углубления дарования и характера музыки Кюи соприкосновение его с русскими поэтами было необходимым и благоприятным и приводило иногда к хорошим результатам. Особенно хороши романсы Кюи на тексты Майкова («Эолова арфа», «Мениск» и др.) и некоторые из пушкинских («Царскосельская статуя», «Сожженное письмо», «Я вас любил»). Что касается поэзии Гейне, влияние которой на русский романс было очень сильным[12], то у Кюи никогда не было той иронии и вместе [74] с тем той силы чувства, чтобы его лирика могла стать адекватной лирике Гейне, даже переводного. Историческое значение романсного творчества Кюи очень велико. Во-первых, в отношении введенного им в обращение красивого материала (много оригинальных мелодических и гармонических оборотов), и во-вторых, в отношении его гибкой декламации, обусловливавшей рельефность, легкость и текучесть «вокальной речи». Не прошел бесследно опыт Кюи и в отношении «переплавки» им интонаций Шопена, Шумана и Шуберта (его меньше всего). Глава в будущем чьем-либо исследовании о влиянии немецкой Lied на русскую музыку должна будет отвести много места Шуману и в частности изящным «шуманизмам» Кюи, который совсем по-своему претворил шумановский язык, чем это сделали Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин, Лядов, Рубинштейн (так же как во Франции Гуно и Бизе, ибо влияние Шумана было повсеместным и глубоко врезывалось в самую разнообразную по характеру музыку). К сожалению, в последние десять-пятнадцать лет жизни мелкоимпровизационные формы музыки Кюи превратились в штампы, под которые он подгонял самые разнообразнейшие тексты. И если в 60-х годах под могучим воздействием Балакирева и боевых лозунгов и идеалов кружка Кюи держался на сравнительно высоком уровне, то впоследствии, с отдалением от центральных интересов и главных путей музыкальной жизни, в его музыке все сильнее и сильнее проступала наружу его чисто дилетантская салонная манера мыслить. Отрицательная роль Кюи — его неумеренная и излишне самоуверенная проповедь и насаждение ариозно-мелодического стиля. Стиль этот измельчил формы многих больших русских опер и привел к несоответствию между чисто камерной отделкой деталей декламации и всей ткани и театрально-декоративными широкоохватными требованиями, идущими от оперы как таковой. Отсюда камерность и даже салонность фактуры всех больших опер Кюи. «Короткость мелодического дыхания» музыки Кюи как свойство его дарования заставила его инстинктивно цепляться и бороться за ариозно-мелодический стиль с его «мелкой» декламацией для салона, а не для оперного театра. Цепляться как за универсально-исцеляющее средство против итальянской оперы, в которой тогда стали замечать только пошлые стороны, упуская из вида культуру широкой и развитой мелодической формы, принесшую так много пользы Глинке. В сущности, Кюи со своим ариозно-мелодическим стилем и Серов со своим недозрелым вагнеризмом — оба были слепыми по отношению к упомянутой культуре развитых вокальных форм, понимание которых только и могло способствовать дальнейшему продвижению всего, что было сделано Глинкой, и что в «Русалке» и в «Юдифи» был продолжено Даргомыжским и Серовым. Верный путь в этом отношении инстинктивно почувствовал Бородин в своем «Игоре», чувствовали и Чайковский (во всех его операх [75] следы борьбы между широкими вокальными формами и ариозностью), а в конце концов и Римский-Корсаков. Кюи оказал сперва сильное влияние на мелодическую фактуру, и отсюда на фактуру некоторых опер последнего (например, «Снегурочки»). Романсная ариозность еще отравляет даже первую картину монументального «Китежа» чередованием камерных ариозо и дуэттино с вступительными «наигрышными» тактами, романсного характера переходами и т. д. Кюи всегда жестоко критиковал Чайковского, но в конце концов сам подпал под влияние «дурного» Чайковского, проглядев в нем все ценное. Некоторые критики называли это возвращением Кюи к мелодическому стилю. Ничего подобного нет. У Кюи в первом периоде творчества тоже встречаются широкие мелодии, но они несвойственны его стилю. Те же «минорные» настроения печали и пассивного уныния, которые были присущи музыке романсов Чайковского (беру здесь только эту область), встречаются в музыке и самого Кюи, в ранних его романсах. Это настроения эпохи — моментов, когда подъем общественности 60-х годов стал идти на убыль. У Чайковского такого рода настроения проявились раньше, чем у других, и с большей настойчивостью (первая серия романсов Чайковского появилась у Юргенсона в 1869 г.). Таким образом, причины жестких нападок Кюи на всего Чайковского (то, что Кюи «проморгал» значение Первого фортепианного концерта, «Онегина» и т. д.) надо искать в том, что в лице Чайковского он имел действительно самого сильного врага ариозно-мелодического стиля с оперной камерностью и мелочностью. Мелодическое чутье и широкое и глубокое дыхание (объем и масштабы) мелодики Чайковского делали его в данном отношении гораздо более органичным наследником Глинки, чем это казалось всем, кто старался подражать технике и голосоведению Глинки, а не развивать заложенные в его музыке глубоко жизненные принципы. Балакирев был гораздо проницательнее и дальновиднее Кюи и, отбрасывая в музыке Чайковского неприятные ему настроения, угадывал в нем все сильное и настоящее. В сущности, борясь против якобы только «настроений» Чайковского, Кюи боролся против его силы мелодиста и заодно сметал все, что было монументально ценного в Чайковском как симфонисте. Наоборот, именно модная в 70—80-х годах ариозность, вдохновителем и пропагандистом которой был Кюи, оказала вредное влияние на Чайковского, от чего он инстинктивно стремился уйти, и, все-таки, не мог уйти вполне. Но прежде чем перейти к рассмотрению романсного творчества Чайковского и производных от него течений, необходимо остановиться ненадолго на вокально-камерной музыке А. Г. Рубинштейна, чтобы охватить более или менее полно развитие русского романса в первые десятилетия после смерти Глинки. Романсы Рубинштейна стали появляться в печати с начала 50-х годов. Число их очень велико (около 200) и написаны они [76] на самые разнообразные тексты: Гейне, Гёте, Левенштейна, Уланда, Мозенталя, Эйхендорфа, Ленау, Гейбеля, Гейзе, Мюссе, Ламартина, Данте, Т. Мора, Пушкина, Тургенева, Ал. Толстого, Лермонтова, гр. Ростопчиной, Кольцова, Жуковского, Крылова (басни), Дельвига, Полонского, Мережковского, Надсона и др. Заслуги Рубинштейна в этой области значительно преуменьшены, и его песни и романсы заслуживают детального исследования, в особенности за период 50—70-х годов, когда шла в русской музыке напряженная борьба: с одной стороны, усваивались с Запада интонации довагнеровского романтизма, а с другой — происходило интенсивное образование и накопление национальных интонационных оборотов. Как и Кюи, Рубинштейн в своем творчестве был «полуваряг». Годы, проведенные в детстве и юности за границей, и яркое музыкальное впечатление этих лет оставили на его музыкальном диалекте и всем мышлении яркий отпечаток. В сфере его романсов особенно чувствуются следы пылкого усвоения песен Шумана и вообще культуры немецкой Lied. В противоположность тенденциям Кюи, Рубинштейн стремился, прежде всего, к широкой, обобщающей смысл и настроение текста, мелодии, ясной, естественной и легко усваиваемой. В этом отношении он перенес в русскую литературу художественной песни много ценного материала и приемов оформления, не говоря уже об умении в сжатой лирической пьесе высказываться свободно и непосредственно. Надо различать два или, вернее, даже три направления в вокальной лирике Рубинштейна. Первое (и лучшее) — романсы и песни на немецкие тексты (кстати сказать, изданные по-русски в отвратительных переводах, совершенно искажающих поэтико- и музыкально-интонационный рисунок)[13]. Второе (и худшее)—романсы и песни на тексты русских поэтов, которые, за очень немногим исключением, свидетельствуют о непонимании Рубинштейном характера и интонационной природы русского стиха: вот где мы имеем дело с действительно псевдорусским стилем, а не у Гурилева, Булахова и других композиторов бытового романса. Песни, романсы и баллады Рубинштейна на тексты Кольцова и Ал. Толстого звучат фальшиво за исключением немногих, где он удачно попадает в тон городской сентиментальной лирики. Лучше других романсы на тексты Жуковского (ор. 8), среди которых выделяются «Сон» и «Листок». При соприкосновении элементов немецкой Lied с поэзией [77] Жуковского и при наличии рубинштейновской непосредственности в музыке этих пьес не чувствуется тех противоречий, какие возникают при переложении на музыку Рубинштейном поэзии Кольцова. Точно так же вовсе не плохи попытки его «омузыкалить» басни Крылова. «Квартет» — с забавным применением recitativo secco в начале, «Парнас», а также «Соловей и кукушка» содержат много свежих оборотов и довольно тонких примеров гибкости переходов от повествовательного тона к диалогу, что особенно трудно при переложении на музыку крыловских басен и что не всегда удается Ребикову и Гречанинову в подобного же рода опытах. «Басни Крылова» раскрывают рубинштейновский юмор — одно из ценных качеств характера композитора. Вообще же нужно сказать, что кидающаяся в глаза разница между его песнями (Lied) на немецкие тексты и романсами на русские тексты может быть объяснена именно как разница между Lied и салонным русским романсом. Третья область — романсы на тексты иностранных, не немецких поэтов (включая даже Данте), наиболее слабая и уязвимая у Рубинштейна, и конечно в отношении французских поэтов (например, Мюссе) он совершенно уступает Кюи. В заключение нельзя не напомнить, что среди немецких романсов Рубинштейна — его «Персидские песни» выгодно выделяются своим сочным ориентальным колоритом и богатством оригинального мелодического языка. Это одни из лучших образцов музыкального преломления лирики Востока с ее капризной напевностью. Общее впечатление от романсно-песенного творчества Рубинштейна— преобладание мужественного и светлого эмоционального тона над пассивными или нейтрально-созерцательными настроениями. Если в его лирике нет характеров и той правды выражения, которой через преломление интонаций человеческой речи добивались Даргомыжский и Мусоргский, то все же есть сила мелодической непосредственности или умение «оформить» свое чувство в ясном напеве, обобщающем поэтическую идею. А это очень ценный дар — этот дар был присущ Чайковскому, который в данном отношении, несмотря на различие в характере музыки, стоит ближе к Рубинштейну и Шуману — к лирикам позднего романтизма, чем к Новой русской школе. К плюсам рубинштейновского романса надо присоединить еще многообразное и хорошее звучание его фортепианных сопровождений. Колоссальным завоеванием русской вокальной музыки последней трети XIX века является камерная лирика Чайковского, вследствие органической спаянности содержания и выражения в чуткой и отзывчивой на малейшие изменения эмоционального тона фактуре его романсов. Глубоко личный эмоциональный тон романсов Чайковского, начавших появляться с 1869 г., обусловлен, прежде всего, исключительно богатым лирико-мелодическим его дарованием, затем органически прирожденными свойствами характера: чувствитель- [78] ностью и острой впечатлительностью, значит, полной зависимостью от всяких «диссонантных» жизнеощущений. Если же его камерная вокальная музыка не превратилась в крайне субъективные, непонятные большинству людей, исповеди и признания в виде каких-либо вовсе необычных звукосочетаний и форм, то не произошло это по очень простой причине — по своему материалу и настроениям, по характеру мелодики (задушевно элегической) и умению искренне и просто выражать чувство, Чайковский в своем романсе почти целиком вышел из русского бытового, вернее, «домашнего» романса. Средней служилой интеллигенции и всему русскому «разночинству» грустный и пассивно-мечтательный характер напевов Алябьева, Варламова, Гурилева и множества их подражателей был очень дорог и привычен. Оттого и Чайковский был принят с такой охотой. Кроме того, в его романсы вошли элементы цыганской песни (правда, в салонном ее преломлении) и в некоторой небольшой дозе — украинские мелодические обороты (как и в его операх и симфониях). Весь этот материал в свою очередь испытал воздействие немецкой романтической песни и, главное, творчества Шумана. Но «шуманизмы» Чайковского, опять-таки, иные, чем у Рубинштейна, Кюи и других композиторов. Экзальтированный, смятенный и порывистый Шуман оставил на Чайковском мало следа. Наоборот, Шуман, полный мрачных предчувствий и фантаст, Шуман, скорбно примиренный и мечтательный, женственный, проницательно вглядывающийся в свой душевный мир или рассказывающий детям «о чужих странах и людях»,— это Шуман Чайковского. Конечно, язык романсов Чайковского сложнее, чем рассказано здесь, но важно было, хотя бы в упрощенной схеме, указать в данном случае на безусловную необходимость для историков музыки отдавать себе отчет в качественном составе множителей, из которых образуется тот или иной организованный интонационный комплекс, как произведение n”ого числа ингредиентов. Тогда многое становится понятным не только в чисто формальном плане, но и в вопросах восприятия данной музыки и ее социального бытия. Лирика Чайковского ответила на эмоциональные запросы множества людей и ответила в понятных им звукосочетаниях в преломлении правдивейшего и искреннейшего художника. Как ни различны по характеру музыки Чайковский и Мусоргский (различные в силу «инакости» материала их музыки и приемов отбора интонаций), но правдивость чувства, боязнь выспреннего и ходульного пафоса, стремление к жизненно-повествовательной простоте выражения их сближает. Разумею не простоту материала, а отсутствие посредствующих рефлексий между испытанным чувством и его отражением в звуке. Мусоргский так боялся всякого рассудочного посредничества предвзятых форм, что искал правдивой мелодии в интонациях человеческой речи, избегая музыкального развития, содержанием не оправданного. Чайковский как прирожденный симфонист не мог идти за ним в этом [79] направлении и потому не мог понять стремлений Мусоргского. Он искал правды выражения иным путем: быть ближе к людям через наиболее родные им, задушевные музыкальные интонации, через мелодические обороты, которые позволяли бы наиболее непосредственно высказываться, ибо музыка одна из форм высказывания. В чудовищных условиях российской действительности, в особенности провинциальной, музицирование было не столько салонным времяпрепровождением, сколько искренним общением людей. Отсюда колоссальное распространение домашнего сентиментально-элегического романса и эмоционально-возбужденной лирической песни. Конечно, в столицах, в высших кругах, салон как таковой с его изящной поверхностной и остроумной беседой, созданной как раз для того, чтобы скрывать, а не обнаруживать .свои подлинные чувства,—такой салон мог требовать и соответствующей себе музыки. Но в семьях более скромных и особенно в провинции, а также среди людей, страдавших от мелочной и пошлой жизни, от всего, что подавляло человека, нужна была именно и только музыка непосредственного искреннего чувства, которая давала бы возможность «отвести душу» и сама была бы высказыванием. Чувства при этом, конечно, не могли быть радостными. Музыка Чайковского пришла вовремя и открыла полную возможность такого рода интенсивного эмоционального общения. Оттого в ней не только пассивная покорность, но и возмущение скованной воли. Зато стоит только Чайковскому перейти в сферу чисто салонной «болтливой» лирики, как его музыка вянет и тускнеет, и тогда его начинают выручать только опыт и техника, всегда помогающие даже самому бессодержательному композитору наговорить очень много. Вот это-то и преследовал Мусоргский в «ученых музыкантах», и в свою очередь подобного преследования ему не могли простить обвиняемые им и запутали дело, объявив, что Мусоргский отрицал и грамоту и музыку как искусство. Все эти неизбежные пояснения и отклонения я привожу, чтобы яснее стало историческое значение и место романсной лирики Чайковского в русской жизни. Мне кажется, что теперь должно быть понятно, сколько важного и ценного Чайковский внес в культуру романса. Об отдельных словах, как и вообще о поэтическом тексте, он заботился мало. Текст у него—материал для музыкального выражения, а не цель. Поэтому о поэтическо-музыкальной культуре слова и речевой интонации здесь говорить не приходится. Для Чайковского важна была общая выразительность музыки, отвечающая настроению текста, и сильная эмоциональная концентрация на важнейших и руководящих мелодических линиях. Раз если ему удавалось схватить этот жизненный нерв романса, его движущую силу — все остальное было обеспечено, музыка текла легко и свободно, гармоническая ткань лепилась естественно и просто. Как только этого не случалось — мысль вяло нанизывала строку за строкой, лишенная эмоционально- [80] динамической содержательности. Примеры удачи — все лучшие его романсы — заключают в себе централизующую и концентрирующую чувства мысль-мелодию (это не тема для разработки, не лейтмотив, а идея-импульс): «Ни слова, о друг мой», «Отчего», «Нет, только тот, кто знал», «Вечер», «Корольки», «Ни отзыва, ни слова», «Страшная минута», «Колыбельная песня», «Новогреческая песня», «То было раннею весной», «День ли царит», «На нивы желтые», «Ночи безумные», «Песнь цыганки», «Ночь» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь»), и наконец два романса из «сумеречного и ночного» цикла ор. 73 — «Ночь» («Меркнет слабый свет свечи») и «Снова, как прежде» — в параллель циклу «Без солнца» Мусоргского. Чайковский выбирал всегда такой звуковой материал, в котором непременно заключалась бы энергия высказывания — тот максимум эмоционального напряжения, при котором эстетическая ценность материала несущественна, и музыка становится током чувства. В этом смысле, романс «День ли царит» является не менее ценным, чем «Нет, только тот, кто знал», а «Ночи безумные» — не незначительнее, чем оба других выразительных романса, посвященных ночи. Но и в чисто музыкальном отношении мы имеем в Чайковском выдающегося мастера вокального рисунка и художника мелодии. Такие вещи, как «Ни слова, о друг мой» или «Отчего я люблю тебя, светлая ночь» — беру два примера из многих,— служат прекрасными образцами интонационно-мелодического развития основной звукоидеи (интонационного — в том смысле, что все движение и раскрытие идеи покоится здесь на звучании, на дыхании, на слуховом ощущении, а не на абстрактной архитектонике). Чайковскому трудно было подражать, хотя от его романсов шел большой соблазн. Казалось, что стоит только воспользоваться его фактурой и «минорными» настроениями — и дело будет сделано. Вред эпигонства и заключается в заимствовании либо внешне технических приемов, а не принципов формообразования, либо в поверхностном имитировании характера музыки. Нет смысла в перечислении всех «ответвлений» романсного стиля Чайковского. Можно ограничиться указанием лишь на главные, начиная с вокальных пьес Аренского, ни на пядь не подвинувшего завоевания Чайковского, но оставившего кое-что ценное в салонной поверхностной лирике. Все милое и привлекательное в его симпатичном таланте было, все-таки, только местным и преходящим явлением. Историческое значение Аренского невелико, и важно лишь, что в течение некоторого времени его вполне культурные и красивые романсы задерживали окончательное порабощение салонной музыки и музыки любительских и всяческих «благотворительных» концертов (был такой очень распространенный жанр!) абсолютно бездарной третьесортной продукцией Блейхмана и ему подобных совратителей вкуса публики с конца 90-х годов до великой революции. [81] Необходимо выделить удачное достижение Аренского в области мелодекламации (три тургеневских «стихотворения в прозе»)— сферы очень опасной и, вскоре после Аренского, окончательно загубленной «представителями музыкальной пошлости». Романсы и мелодекламации Ребикова также заключают в себе изрядную дозу «настроений» Чайковского и служат тоже достаточным поводом для упреков вкусам подражателей великого мастера, слышавших в его музыке (если судить по реминисценциям) лишь мелко ариозные формы и сентиментально-печальные и стонущие фразки! В двух направлениях, но оба продвигаясь от музыки Чайковского, эволюционировали в своей вокальной лирике учитель и ученик — С. И. Танеев и С. В. Рахманинов. Романсы Танеева составляют очень интересную область в его творчестве. Как и всем другим его сочинениям, им свойственны серьезность стиля и глубокомыслие, часто отнимающие у лирической музыки всякий отпечаток непосредственности и непроизвольности: слишком далеким представляется расстояние от жизненного впечатления, стимулировавшего творчество, до полной и окончательной фиксации идеи. Но все эти кажущиеся опасения прекращаются при внимательном ознакомлении с романсами Танеева. Так сильно и органично его мышление, что, как бы ни казалась отвлеченной и рассудочной найденная им форма, в результате она-то и служит всецело тому, чтобы чувство или эмоциональный тон музыки сохранили именно через нее всю свою свежесть и первозданность. Сочинения Танеева, а в числе их и романсы его, подобны хорошим стихам, в которые надо неоднократно вчитываться я каждый раз это ведет к открытию еще более главного, еще более важного в них, тогда как первое впечатление указывало только на мастерство, ум и строгость стиля. Не всегда удается Танееву достигнуть такой высоты, и порой его романсы становятся рядовыми лирическими эпизодами или сухими технически вылощенными концепциями. Он не умеет, как Чайковский, «залпом» высказаться и сконцентрировать силу выражения на каком-либо эмоциональном моменте. Ему надо прочно построить и со всех сторон взвесить замысел. Но, в конечном счете, Танеев создавал такие выдающиеся вещи, как «Менуэт», сжав здесь в одном романсе столько содержания, сколько не дадут несколько томов психологических описаний и воспоминаний о французской революции. А лучшие его лирико-созерцательные и мечтательные романсы («В годину утраты», «Когда, кружась, осенние листы», «Зимний путь», «Ангел») и любовно-ласковые («В дымке невидимке», «Вальс») содержат столько тепла и жизненного уюта, что хочется сравнить его с теми мыслителями-гигантами, которые ценили и понимали человеческое чувство в его самых интимных и непосредственных проявлениях, и мысль которых, восходя к космосу, никогда не покидала ни наивных грез ребенка, ни первых впечатлений влюбленной в мир молодости. Танеев является, [82] поэтому, художником-мыслителем, сумевшим создать совсем особый жанр вокальной лирики: симфонический романс — романс, который не служит эскизом к чему-то большому, не отмечает собою какой-либо преходящий этап или моментальную вспышку чувства, а вырастает так же последовательно и органично, как сумма и отбор и синтез жизненных впечатлений и как прочный охват их музыкой, так, чтобы в сжатой и концентрированной форме чувства были стянуты мыслью подобно накопленной энергии в аккумуляторе. Танеев мало и недостаточно оценен был при жизни как мастер романса и только недавно встретил внимание к себе. Наоборот, Рахманинов одно время был повсюду любим широкой публикой, а теперь не в меру забыт. Романсы его — полная противоположность танеевским. В них на каждом шагу можно наткнуться на страдальческий «надсоновский» пафос («Я не пророк», «Пора»), на неуравновешенность музыки, на неразборчивость в выборе текста и музыкального материала, на дешевые мелодраматические эффекты и т. д. и т. д. В наше время некоторые романсы Рахманинова такого порядка уже стали достоянием не живой, а мертвой истории, только подводящей итоги, а не учитывающей в прошлом живые ростки современности. Но Рахманинов — крупный, яркий и одаренный музыкант не мог же в области романса ограничиться только фразерством? Дело в том, что, увлекшись пышно-декоративным и по-рубинштейновски размашистым «пианистическим романсом» («Вешние воды»), игрой на чувствительности с элементами «русского стиля» («Полюбила я на печаль свою») и «взвинчиванием» пессимистических настроений посредством широких патетических нарастаний («Как мне больно»), Рахманинов был глубоко искренен и не позировал. В его музыке все то, что теперь кажется риторикой, было средством, чтобы убедить и увлечь. В протестующем пафосе Рахманинова звучали надрыв и вопль, понятные окружающей среде, и юный композитор своим порывом, своими стремлениями инстинктивно отвечал наболевшему чувству[14]. Правда непосредственного высказывания, присущая рахманиновскому «возбужденному стилю», с особенной силой сказалась в его инструментальной лирике. Отсюда выросла широкоохватная волнующая тема начала Второго концерта для фортепиано и динамический финал этого концерта. Но есть и другой Рахманинов — Рахманинов пластической вокальной лирики [83] «Франчески», автор светлых, ласковых и «тихих» романсов — таких, как «Сирень», «Островок», «Здесь хорошо», «Сумерки» («Она задумалась»), «Есть много звуков», «К детям», «У моего окна», «Ночь печальна». Это направление было связано с развитием рахманиновского напевного и «протяжного» мелоса и поющей ветвистой многоголосной ткани[15]. Оно привело к монументальному Третьему концерту для фортепиано и к замечательной хоровой симфонии — к «Всенощной», а в области камерной музыки к «Вокализу» и к лучшим романсам, результаты существования которых еще скажутся и на которые мало было обращено внимания. Линия же развития порывистого и взволнованного мелоса и мятежного эмоционализма еще раз дала о себе знать в контрастной музыке патетической кантаты «Колокола» (Э. По — Бальмонт). Следующая стадия развития московской школы камерной вокальной лирики (от Чайковского — Танеева) находит место в творчестве Н. К. Метнера[16] в его умиротворенно-созерцательной глубоко поэтичной и серьезной музыке, в которой соединились культура германской наивно-чувствительной песенности (что-то от Брамса, но не от чувственного Вольфа) с русской задушевностью и нежностью. Наряду с постоянным стремлением к влекущей к себе простоте и естественности высказывания, свойственных пушкинскому художественному гению, Метнер, однако, склонен к немецкому сентиментальному «вчувствованию» (именно это свойство было совершенно чуждо танеевской ясной мудрости) и потому иногда к длительному прозябанию в своей музыке на моментах и темах, не заключающих в себе столько силы внушения, чтобы на них долго останавливаться. То, что естественно присуще напевному стилю Рахманинова в его лирико-созерцательных «стояниях» и кружениях вокруг одного созвучия (речь идет о рахманиновских медленно скользящих терциях, о повторениях короткого диатонического мотива с сопровождающими его хроматическими ходами, о почти неподвижных чуть колышащихся фонах), не удается Метнеру, превращаясь только в прием, в штамп, хотя быть может и «чище» сработанный и отполированный. Но за [84] всеми элементами нарочитого умствования и прирожденного консерватизма мышления, Метнер — чистый и подлинный лирик, которому чужда стихия эстрадности, но близка зато более интимная и строгая сфера камерности. Даже в своей «философичности», в своем блуждании на перекрестке двух культур, германской и русской, в витиеватости и некоторой риторичности своей музыки и подчеркнутости в ней интеллектуальных факторов Метнер, все-таки, не теряет лирического нерва и умеет быть трогательным и волнующим. Это умный и искренний, но не глубоко проницательный художник. Из боязни заразиться модным и поверхностным Метнер всегда шел мимо коренных органически неизбежных обновлений музыки и слишком быстро поэтому остановился в своем творчестве, вступив на путь варьирования пройденного. Лирика Метнера была самым характерным проявлением московской вокальной камерной музыки кануна революции. Осторожный модернизм совместился в ней с сурово традиционным мышлением. По своим настроениям и тенденциям лирика эта была и остается крайне замкнутой, сосредоточенной, кабинетной (отнюдь не салонной и не эстрадной). Ничего подобного рахманиновской открытости и всегдашнего «жеста в публику» в ней нет! .. Сперва Рахманинов, потом Метнер, заняв своими сочинениями общее внимание, заслонили содержательное при всей своей замкнутости романсное творчество композитора Г. Л. Катуара[17]. Недостаток его интимно-салонной, красивой по рисунку и с большим вкусом к нежным и изящным сочетаниям вытканной вокальной лирики в ее мягкости и податливости — вплоть до полного отсутствия упругости и упорства в движении (романсы из циклов на слова Тютчева и Соловьева), что производит впечатление даже апатии. Поэтому у Катуара можно наблюдать любопытное явление: при постоянном стремлении к изысканности и к новизне фактуры он чаще всего пользуется очень ординарными кадансами и возвращается к ним всегда именно так, чтобы сразу было [85] видно, каким интонационным якорем, надежным и устойчивым, для «флюидистой» ткани, готовой расплыться, они являются. И психологически и исторически такое явление, как Катуар, очень любопытно. Его искусство с заметно проявляющимся влиянием французской музыки служит противовесом упорному и мужественному воздействию московского «германизма». В то же время он, единственный из всех эпигонов Чайковского, умеет продолжить лирические страницы последнего, не впадая в рабское безвкусное подражание. Даже в своих французских оборотах Катуар сохраняет славянско-элегический тон, так же, как в свое время Чайковский. Но что всего интереснее, так это инстинктивное отгораживание от славяно-романской лирики Катуара и со стороны московских «германистов» и со стороны петербургских «националистов», врагов всякого эклектизма. Его музыка оказывается, таким образом, в роковом «между». Только в связи с проникновением французского импрессионизма и некоторой «сдачей» германского воздействия, можно заметить, как сочинения Катуара начинают привлекать внимание. Рассмотрением лирики Танеева, Рахманинова, Метнера и Катуара вполне исчерпывается все главное в московском романсном творчестве после смерти Чайковского до эпохи великой революции. Обратим внимание, что не только в «эстрадных элементах» лирики Рахманинова была динамика крика и надрыва, сознания безысходности и безотчетного протеста. Дело в том, что Рахманинов вовсе не однообразный «певец интимных настроений», как его одно время называли. Он расщеплен и раздвоен: крик и тихий покой чередуются во всех opus”ax его романсов, сменяясь вдруг пустой риторикой[18]. Во время войны лирика его и других композиторов становится созерцательнее и углубленнее в психологическом отношении и все больше уходит в анализ внутренних эмоциональных состояний и в самопознание. В связи с этим увеличивается интерес к музыкально чуткой поэзии и к текстам, серьезное содержание которых было бы психологически и эстетически ценным стимулом для музыки. В полную противоположность Чайковскому и даже раннему Рахманинову Метнер, Катуар и Танеев последнего периода выбирают стихи поэтически осмысленные и «омузыкаливают» их, стараясь выявить, а не затенить их характер, строй и звучность. Поэтическое слово получает равноправие в романсе, стихи перестают быть только подсобным материалом. Общая передача основного настроения соединяется с детальным следованием эмоциональному тону, ритму и звуковому колориту слов и каждого стиха. Правда, Рахманинов в своем «Вокализе» приходит к чистой вокальной мелодике, вовсе [86] откидывая текст, но это явление, будучи музыкально органичным, оказывается связанным и с поэтической культурой символизма, выдвинувшей самоценность звучания слова и словесной нити, сверх их смыслового значения. Среди наиболее устойчивых и определившихся течений в московской вокальной лирике следует отметить еще романсы С. Н. Василенко, А. Т. Гречанинова, Р. М. Глиэра, А. Н. Александрова, Ал. Крейна, М. Ф. Гнесина и Н. Я. Мясковского (оба последних принадлежали к петербургской школе композиторов Римского-Корсакова и Лядова). У Василенко — стиль лирики долго колебался между национально-русскими интонациями, пестрым невкусным модернизмом и импрессионистской экзотикой; в последнее время у него выработался ясно-мелодичный, уравновешенно-спокойный, гомофонный строй музыки. Техника часто доминирует над характерностью, и Василенко пишет на самые разнообразные тексты с равной академичной безупречностью. Удачнейшие era вещи довольно выразительны по музыке, несмотря на всю свою стилистическую «пятнистость». Это модернистские ранние романсы 1906—1908 годов, особенно на тексты Блока, затем экзотические «Заклинания» (1960), «Маорийские песни» (1913), «Экзотическая сюита» (1915) и другие его стилизаторские опыты. В этом отношении Василенко — типичнейший московский «мирискусник». Его симпатичной музыке недостает упругости, в его творчестве не чувствуется сопротивления материала и борьбы за силу выражения. Легко и умело пишу обо всем, что мне нравится,— так можно было бы определить его композиторские работы. Но зато у Василенко нет той эстрадной обыденной красивости, присущей многочисленным романсам Глиэра, скользящим по поверхности чувства. Легкость письма и отсутствие характерности при большой технической умелости доходят у последнего до безразличия к основному принципу художественного прогресса: идти по линии не наименьшего, а наибольшего сопротивления рутине и усвоенным раз навсегда приемам. У Василенко всегда есть определенное стилистическое задание, у Глиэра же берет верх способность быстро писать о всем известных вещах неновыми словами. В песнях и романсах Гречанинова всегда искренность, теплота и задушевность. В песнях (народных, детских и для детей) сказывается и свежесть напевов с народными интонациями и изобретательность фактуры в целом. В романсах — все слабее: слащавая салонная мелодика, с уклоном то в сентиментализм («Колыбельная песня»), то в пошловатый юмор («С тобою мне побыть хотелось»), потом перешла в неудачные опыты стилизации и драматизированной модернистской лирики. В таких опытах на одной стороне стоит добродушный эмоционалист Гречанинов, а на другой — изысканный Бодлер («Цветы зла»), а дальше — Гейне, Соловьев, Сологуб, Тютчев, Блок, Белый, Вяч. Иванов и т. д. Гречанинов как лирик принадлежит трем сферам: камерной музыке и эстраде салонного типа, домашнему музицированию и на- [87] конец школьной и клубной просветительно-показательной эстраде. Очень плохо, когда вещи его, принадлежащие первой сфере, исполняются в последней, тогда как вся ценность Гречанинова в его общедоступных хорах и песнях, тоже не лишенных слащавости стиля «уютных гостиных», но оздоровляемых своим наивно-напевным мелодическим материалом. Лирические вокальные пьесы Анатолия Александрова[19] (наиболее ценные среди них — циклы на тексты Кузмина «Александрийские песни») намечают новое дальнейшее развитие московской лирики от Чайковского через Катуара и Танеева. Со стремлениями последнего создавать «вокальные стихотворения» синтезированного склада и строя мыслей как выражение поэтической идеи и ассоциировавшихся в ней образов и явлений, а не как романс эмоционально-экзальтированного глубоко лиричного характера, можно связать лишь немногие лирические пьесы Александрова. Большинству из них присущ глубоко интимный, субъективный отпечаток, как и романсам Чайковского, и песням Шуберта и Шумана. Вкус в отношении выбора поэтического текста, умение соединить декламационную выразительность с рельефностью и гибкостью мелодического рисунка, а главное — чуткость в отношении музыкальной трактовки стиха (не теряя поэтического ритма, избежать монотонного совпадения рифм, ассонансов и т. п. строительных элементов стиха с таковыми же музыкальными— кадансы и т. п.) составляют большие плюсы лирики Александрова. Романсное творчество Александра Крейна — напевное, эмоционально-экзальтированное и страстное — принадлежит к лучшим сторонам его музыки, потому что здесь в прихотливо-беспокойном узоре его мелоса, в импрессионистски вкусных гармониях и капризной ритмике проявляются и вкус, и темперамент, и чуткое перевоплощение в современном мелосе музыкальности древнееврейской поэтической лирики. Крейн вовсе не стилизует своей мелодики— он в “полном смысле слова поет и живет в песне и песнью, весь ею охваченный. Это же ценное проникновение в лиризм, как в эмоциональную не личную, а глубоко расовую стихию, дает себя знать и в лирике Гнесина[20], композитора целиком и по существу вокального: в мелосе, в напряженности, напевности и динамике дыхания заключается все главное и лучшее у Гнесина, [88] и он только насилует свою природу, когда пытается овладеть архитектоникой инструментально-симфонических форм. Как бы он ни научился ею владеть, она всегда останется для него надстройкой, точно так же, как все его гармонические пряности являются только налетом модернизма и статическими образованиями над истинной сущностью его музыки — песенно-напряженной мелодической линией, согретой глубоким чувством и насыщенной дыханием. Чем ближе этот мелос к диатонике, к архаической простоте и гетерофонической полифонии, тем величавее и выразительнее музыка Гнесина. Оттого она и живет так в вокальных интонациях, что в ней тогда особенно чувствуется ее подлинная природа. После робких опытов наступает первый период расцвета в творчестве Гнесина (приблизительно с 1906 г. по 1916 г.): утонченным модернизм стиля сочетается с нервным подъемом и экзальтацией. Нередко музыка проникнута глубокой скорбью и сознанием безысходности. Это нашло свое отражение в ряде оригинальных по формам выражения вокальных композиций на тексты Блока, Вяч. Иванова, Сологуба, Эдгара По и Бальмонта. Античность (музыка к «Антигоне», к «Финикиянкам») и отчасти средневековье («Роза и крест» Блока, «Rosarium» Вяч. Иванова) вносят в творчество этого периода моменты сосредоточения и цепляемости за крепкие устои. Заслуга Гнесина в том, что он сумел через музыку раскрыть за роскошной культурой слова эмоциональную основу поэзии эпохи символизма. Но все же путь этот не был тем, на котором композитор мог бы найти ответ на волновавшие его мысли и чувства. Второй период Гнесина — обращение к богатой и крепкой своими корнями культуре древнего еврейского восточного мелоса и отсюда к слиянию своей экзальтированной и пытливой натуры со строгой и устойчивой сферой «музыки жизненного опыта тысячелетий». Это как раз область, в которой он создает вокальные и инструментальные «поэмы», насыщенные проникновенной созерцательной лирикой с извилистыми очертаниями и глубоко волнующей напевностью. Здесь в нем проснулся поэт-музыкант романтики библейского Востока и звездного простора пустыни. Суммируя достижения романсной лирики современной столицы [89] СССР — Москвы, пришлось отдалиться в хронологическом отношении от той точки опоры в развитии русского романса, с которой связаны Мясковский и Гнесин, и Гречанинов как композиторы, получившие музыкальное образование в Петербургской консерватории, значит, в кругу воздействия принципов и технических норм, выработанных школой Римского-Корсакова. Именно творчество последнего в области романса, как и в других областях музыки, оказывается водоразделом между идеалами Могучей кучки и эпохой закрепления ее завоеваний и включения их в русло общеевропейского академизма. Чрезвычайно ценными и показательными в стилистическом отношении являются ранние романсы Римского-Корсакова (ор. 2, 3, 4, 7 и 8), написанные в период времени от 1866 до 1870 г. Почти каждый из них — индивидуально ценный пример корсаковской чувственно интимной и пластичной лирики. Лучшие: «Пленившись розой, соловей», «Южная ночь», «В темной роще», «Ночь», «Тайна», «В царство розы и вина», «Я верю: я любим». Присущую Римскому-Корсакову эмоциональную сдержанность еще не усугубляют музыкально-формальные предпосылки, как это можно наблюдать в позднейших вокальных циклах, особенно в циклах 1897—1898 годов (орus”ы 39—56, включая дуэты и трио, а также кантату «Свитезянка»). В ранних романсах Римского-Корсакова пленяет еще неостывшее чувство и свежесть изобретения. Музыкально-диалектологически они интересны по тому, как сквозь влияния («шуманизмы», балакиревское воздействие в фортепианной фактуре) пробиваются характерно корсаковские гармонии, чувство колорита, вкус к музыкальному пейзажу, своеобразный ориентализм. В эмоциональном отношении преобладают настроения влюбленности от застенчивой серенады («Тихо вечер догорает») до страстного по-шумановски порыва («Я верю: я любим»), от созерцательно-нежной «Ночи» до роскошной импровизации любовного заклинания в образах античности: «В царство розы и вина приди» (Фет). Образы античности влекут воображение Римского-Корсакова на всем протяжении его творчества. В циклах в 1897 г. композитор соприкасается с ними через поэзию Пушкина и особенно Майкова. Но, если даже нет в стихах образов античности, то чувство меры, стройность, спокойствие, холодок привычного мастерства, присущие романсам Римского-Корсакова средней поры творчества, говорят о господстве качеств, аналогичных римской рациональной поэтической культуре, но без присущей ей пышности. Наиболее красивыми остаются романсы, в которых преобладают антично-элегические настроения с их светлой сдержанной печалью, а также мечтательно-эротические настроения и экстатические состояния женской души. Элегии: «О чем в тиши ночей», «Редеет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух» — образцовые вокально-камерные сочинения. Романсы «Нимфа» и «Сон в летнюю ночь» уже переходят по своему мастерству в сферу концертно-симфони- [90] ческую с присущей Римскому-Корсакову склонностью к картинности и декоративности. Как всегда, очень удавались Римскому-Корсакову экскурсы в утонченно-экзотический мир восточной эротики: «Люблю тебя, месяц», «Посмотри в свой вертоград», дуэты «Пан» и «Песня песен». С чутким пониманием инструментального колорита вполне естественно совпадало у Римского-Корсакова влечение к пейзажу, к описанию природы. Отсюда множество раскинутых повсюду в его романсах звукописных деталей, а также цикл музыкально-морских пейзажей «У моря». Корсаковские музыкальные пейзажи всегда тяготеют к живописной статике и заключают в себе лишь самые необходимые и неизбежные по самому характеру музыкального пейзажа элементы моторности и динамичности. Цикл «У моря» как раз ценен удачным проведением идеи музыкально-динамического воплощения «волны» в разных состояниях и стадиях ее движения и в связи с душевными настроениями созерцающего море человека. Мелодике Римского-Корсакова присуще «короткое дыхание». Отсюда некоторая мозаичность фактуры его романсов, склонность к мелочному детализированию внешне описательных подробностей: и — за немногими исключениями — неспособность к охвату поэтического текста и его идеи единым эмоциональным порывом (у Чайковского, именно, все — обратно). «Короткость мелодического дыхания» — органическое свойство Римского-Корсакова, оно рождает много ценных качеств в его музыке. Композитор всю жизнь стремился это преодолеть и неустанно порывался к широким мелодическим линиям, усваивая их, главным образом, через народный мелос. Но как раз последний не играет в романсах почти никакой роли, и мы имеем в них образцы вненациональной чисто лирической мелодики Римского-Корсакова. Все, что было органическим природным свойством его языка — мозаичность вокальной фактуры, преобладание инструментально-ариозной и красочно тембровой трактовки человеческого голоса над эмоционально напряженной широкой кантиленной манерой письма,— то у многочисленных его последователей превратилось в мертвый подражательный прием. Как в свое время романсы Чайковского, так и романсы Римского-Корсакова породили большое количество «отражений», в которых не столько продолжали свою жизнь принципы творчества великого мастера, сколько внешне-формально перенимались манера письма и схемы. Поэтому в дальнейшем будут упомянуты только наиболее жизненные и самостоятельные течения, выросшие из корсаковской лирики или близкие к ней[21]. [91] Глазунов, не являясь вокальным композитором, дал, однако, в области романса несколько красивых образцов выразительно-пластичной и ясной лирики. Следуя крайне чутко традиции воплощения в русской музыке античных образов и «образов Италии», глинкинских эпикурейских настроений и анакреонтической лирики, он нашел и рельефный мелодический рисунок и формы для таких пушкинских стихотворений, как «Что смолкнул веселия глас», «Нереида», «В крови горит огонь желанья», «Делия», «Кубок янтарный», «Близ мест, где царствует Венеция златая», «Все в ней гармония», «Муза», «Сновидение» («Недавно обольщен прелестным сновиденьем»). Менее удачной была попытка охватить и сферу пушкинской элегии («Желание» — «Медлительно влекутся дни мои»). Первые три из перечисленных остаются лучшими романсами Глазунова. Черепнин, Николай Николаевич (род. в 1873 г. [ум. в 1945 г.]), очень заметно и самостоятельно проявил себя в романсе, причем период подражательности корсаковской фактуре прошел у него довольно быстро в первых же тетрадях лирики. Можно различить в романсах Черепнина два течения или, вернее, постепенное выпрямление или высвобождение одного — главного — из окутывавших его наслоений. Изживание эмоций «отрицательного заряда» (печаль, скорбь, томление, сознание безысходности) нашло свое воплощение в части тютчевского цикла (ор. 16) и в романсе «Осеннее». Но тут же рядом начинает вырастать характерное для Черепнина и эпохи влечение к образам прошлого («Царскосельское озеро», «Колыбель моя качалась у Сиона») и к стилизации манящих призраков старины. Мечта, сказка, фантазия, детство с его играми и наивной верой в чудесное — словом, культ былого и поэзия фантастики завладевают воображением Черепнина в его вокальной и инструментальной музыке. Это направление окончательно берет верх, отсюда лирика Черепнина получает видимость оптимизма и «положительного заряда» эмоционального тока, а музыкальная фактура испытывает сильное воздействие со стороны французского импрессионизма. Последнее обстоятельство не должно удивлять. Французский импрессионизм имел точки соприкосновения с импрессионистскими приемами школы Римского-Корсакова (тяготение к прозрачной инструментальной ткани, к фиксации впечатлений природы, к воздуху, к красочности, к нюансам света и тени). Конечно, тут надо принять во внимание различие культур и иную эмоциональную подпочву, но в конечном счете партитура «Петушка» Римского-Корсакова не менее последовательный вывод из тенденций к импрессионизму с его экзотикой, намечавшихся в русской музыке еще от увертюры-фантазии Глинки «Ночь в Мадриде», чем во Франции партитура «Прелюдии фавна» («Prelude a l”Apres-midi d”un Faune») Дебюсси. Элементы классики в этой прелюдии не менее существенны, чем в фактуре «Петушка», хотя в свое время и казалось, что Дебюсси нарушил все непреложные законы музыкальной композиции, [92] но в то время как сам Римский-Корсаков шел очень осторожно и постепенно навстречу западноевропейскому импрессионизму и с подозрительностью относился к творчеству Дебюсси, наиболее талантливые и чуткие из его учеников двинулись по этому пути с большей смелостью и с увлечением заморскими новшествами. Таким ярким и смелым шагом в лирике Черепнина были его вокальные пьесы на слова Бальмонта «Фейные сказки» (две серии) — безусловно оставившие яркий след в музыке эпохи между двух революций, когда сквозь культ мечты и стилизацию прошлого уже намечались современные стремления и когда началось движение к раскрепощению от узких принципов оформления и «идейной обломовщины» предшествующей эпохи. Во главе этого течения стоял, вольно или невольно, сам Римский-Корсаков и, вероятно, стоял бы до сих пор, если бы был жив, потому что от партитур «Китежа» и «Петушка» эволюционировал бы дальше. В сфере созерцательно-любовной и идиллической лирики с своеобразным уклоном к ориентализму — тоже один из традиционных путей русского романса — Черепнин сочинил красивый цикл «Из Гафиза» (поэзия Гафиза в переводе Фета)[22]. К этой же области, но вне ориентальных мотивов относится ряд отдельных лирических романсов на тексты Майкова, Полонского, Фета и других. Менее удачной была попытка Черепнина овладеть областью романтической и даже эсхатологической баллады («Трубный глас» Мережковского, «Конь морской» Тютчева, «Победитель» Уланда — Жуковского, «Мениск» Майкова), но в историческом отношении необходимо отметить и этот путь как связующий этап или момент соприкосновения модернизма с эволюцией русской вокальной баллады от Глинки и Даргомыжского к Мусоргскому, Бородину и далее. К области сказочной стилизации (цикл на слова Ремизова из сб. «Посолонь») и к поэзии символистов (романсы на тексты Блока) тяготел В. Сенилов. Отсутствие живого темперамента, «головной» склад музыки и пестрота стиля от недостатка творческой силы, ассимилирующей влияния, помешали развитию этого талантливого модерниста, вместе с Черепниным и Гнесиным, о которых речь была выше, способствовавшего расширению поэтически–образного, эстетически-вкусового и идейного горизонта в русской вокальной лирике первых двух десятилетий XX века. У Сенилова, впрочем, не у одного сказалась характерная для описываемой эпохи петербургского модернизма черта: вызванное богатым расцветом поэзии и расширением эстетического кругозора стремление скорее расширить сферу «сюжетов», охватываемых музыкой, часто увлекало композиторов к тому, что они из одного интереса к поэтическому содержанию и форме того или иного художествен- [93] ного явления раскидывали себя по самым различным областям, не считаясь со специфическими склонностями и способностями своего дарования. Только что было указано увлечение Черепнина романтической балладой, тогда как самая близкая ему сфера — красочно-импрессионистское воплощение лирической сказки. Увлечение это сказалось на его попытке — в области инструментальной музыки — охватить мир «баллады ужасов» Э. По и увлечься из чисто литературного и эстетического интереса сюжетом «Маски красной смерти». Попытка осталась попыткой. Точно так же разбрасывался Сенилов, и именно его исторически характерное положение искателя-неудачника из-за преобладания вкусовых и идейных интересов над возможностями осуществления заставляет меня останавливаться на нем, как на явлении типичном для такой эпохи перелома. Но даже там, где модернистов постигала неудача из-за указанного неравновесия или несоизмеримости влечений и творческих сил, все-таки их работа, их даже чисто формальные искания и находки исторически оказались ценнее, чем эпигонское топтание большинства представителей корсаковской школы на однажды затверженных уроках. Среднее положение между стремлениями новаторов и послушным следованием крепко усвоенным навыкам и всему тому, что имело право быть законсервированным в мастерстве недавнего прошлого, занял М. Штейнберг, композитор всем складом своего дарования, и природой и характером своего мышления и воззрений на музыку, предназначенный к почетной роли педагога-музыканта в широком смысле этого понятия. Передать новым поколениям мастерство школы Римского-Корсакова, сдержать напор новых веяний, прежде чем они окрепнут, и тем самым сохранить все ценное — вот что было ему предназначено и что он с честью выполнил. Штейнберг — культурнейший музыкант романтического направления. Уступать новому лишь постольку, поскольку это новое можно сразу же наперед и всецело рационально оправдать и пояснить — так можно было бы формулировать лозунг всей работы Штейнберга. И этот лозунг характерен для его творчества, не менее, чем для его педагогической деятельности в узком и тесном смысле этого понятия. Тем самым как тип музыканта также чрезвычайно показательный для эпохи перелома, он естественно должен был занять на некоторое время заметное положение и оказать большие услуги корсаковской школе, отстояв ее позиции вплоть до нашего времени. В области вокальной промежуточное положение Штейнберга Дает уклон скорее в сторону консервативных тенденций его композиторского я, тогда как в инструментальной музыке всегда сильнее проявлялись уступки современности. Это объясняется тем, что в романсе своем Штейнберг дает место интимной романтике — романтике домашнего уюта и спокойного любования и созерцания. Здесь его лирика — глубоко искренна и овеяна душевным теплом и приветливостью. От нежных и тепличных страниц этой ранней [94] лирики (опять-таки характерно, что Штейнберг, не будучи модернистом, брал тексты «модерниста из модернистов» — Бальмонта, не рискуя двинуться к современности через других настоящих и содержательных поэтов той эпохи) Штейнберг естественно должен был уже в наши дни прийти к воплощению созерцательнейшей и пассивнейшей лирической поэзии наших дней — поэзии Рабиндраната Тагора. Борец за формальные принципы школы, Штейнберг в музыке своей тяготеет к эмоциональной статике и сквозь бурную поверхность моря музыкальной и внемузыкальной современности мечтательно всматривается в нетронутые «смутой» красивые «подводные миры» человечности. Для него они еще попрежнему неподвижны[23]. Надо сказать, что параллельно импрессионистским тенденциям, а также стилизаторским «мирискусническим» течениям, увлекавшим лирику корсаковской школы «на поверхность», на живописность и звукоизобразительность, существовало тяготение вглубь — эмоционально-экспрессионистское направление с его эгоцентризмом и страстно-экзальтированной сосредоточенностью на внутренних переживаниях. Не забудем, что ведь если в это время писали стихи Брюсов, Бальмонт, Блок и Вяч. Иванов — то тогда же привлекал к себе внимание своими рассказами и пьесами Леонид Андреев, как выразитель истеричного эмоционализма, а также Ф. Сологуб со своими эротическими призрачными фантасмагориями и кошмарными гротесками. А дальше уже наступала тень хлыстовского «распутства»… Как бы ни были облагорожены и идеализированы в оболочке импрессионистского гармонического материала и в эмоционально-экспрессионистских тонах все эти сложные психологические состояния в поэзии и в музыке — их подпочва, их «дно» были одни и те же в жизни реальной и в ее эстетических отражениях. И если в инструментальной музыке плодом их явился скрябинизм, а их критикой гротеск и сарказмы Прокофьева, то в вокальной лирике следы их воздействия сказались на экстатической стороне музыки [95] романсов Гнесина и их скорбной иронии, на проницательно-суггестивном эмоционализме Мяcковского[24], и, так же как в инструментальной музыке, на улично-саркастическом тоне некоторых романсов Прокофьева («Кудесник»), на ироническом повествовании его о «Гадком утенке» и еще более изысканной иронии его музыки к стихотворениям Ахматовой. Остальных более мелких течений эмоционально-эгоцентрического порядка я упоминать не буду. Надо только помнить, что при анализе стиля романсов петербургской школы этой межреволюционной эпохи необходимо непременно принимать в расчет столкновение принципов оформления, идущих от Римского-Корсакова и его последователей с модернистскими течениями: «дебюссизм» (далее «шёнбергианство»), влияние Рих. Штрауса (у Сенилова), проскальзывание регеровских гармоний уже дают себя знать со средины первого десятилетия XX века, несмотря на строгую цензуру и суровую критику со стороны учителей. Рядом шло упорное поглощение вагнерианства я всасывание его. Выросший из Шопена, Вагнера и Листа скрябинизм вступает в борьбу с чисто импрессионистскими французскими влияниями — и борьба эта хоть в слабой степени, но очень долго отражается на романсной лирике. Тут же в психологизме Мясковского намечается синтез Мусоргского и Чайковского, а яркое и дерзкое темпераментное дарование Прокофьева поднимается над всеми направлениями, и его интенсивно-стремительное развитие клином врезывается в музыкальную жизнь. Насколько трудно было найти даже для сильного таланта одновременно строго формальный и психологически оправданный путь в будущее среди столь сложных столкновений вкусов, направлений, содержаний, а главное среди схватки эмоционализма и его эгоцентрических и экспрессионистских тенденций с импрессионизмом и его стремлением к обогащению музыки извне, от видимых явлений и их форм, показывает пример раннего Стравинского: от юношеской его почти безличной симфонии до «Петрушки». Ограничиваясь пока только его вокальным творчеством, надо отметить, что он чрезвычайно последовательно должен был охватить все важнейшие области лирики той эпохи. В «Фавне и пастушке» (1906) он отдал дань давней традиции воплощения античных образов через пушкинскую эротику. Он сделал это, оставаясь на почве корсаковской школы, но очень остроумно вплетя в нее уже французско-импрессионистские навыки. В «Пасторали» (1908) он опять-таки не без влияния дебюссизма находит возможным по-новому преломить идиллические настроения русского романса, идущие еще от помещичьей пасторальной лирики XVIII века. В двух замечательных песнях на тексты Городецкого («Весна», 1907, и «Росянка», 1908) он устанавливает свою связь с намечавшимся в то время влечением к эротической мистике русского раскола и намечает как бы дальнейший путь от одной из сфер [96] «Хованщины» Мусоргского[25]. В двух романсах на тексты Верлена (1910) он целиком отдается французским влияниям. Но дальше начинает вырастать все ярче личный стиль Стравинского. В «японской лирике» (1912) с ее изысканнейшим рисунком найден новый синтез русского ориентализма с французской экзотикой. В детских песенках (из «Воспоминаний о моем детстве», 1913) он связывает эстетическое преломление детской прибауточной, игривой и лирической песни у Анатолия Лядова (три тетради таких песен являются одним из лучших эпизодов в творчестве этого композитора) с психологическим уклоном «Детской» Мусоргского[26]. В дальнейшей эволюции Стравинского из этого синтеза родятся совершеннейшие новообразования и претворения стиля лаконичной шуточной песни на основе народных интонаций (это его «Прибаутки», 1914, и «Три сказки для детей», 1917). Отчасти и скоморошья «Байка про лису, петуха, кота да барана» связана с этой сферой. «Четыре русские песни» (1918) Стравинского также являются любопытным перенесением в плоскость современного музыкального конструктивизма тенденций народнических, модернистско-мистических и стилизаторско-эстетских. Но новая спайка так крепка, что никакой речи не может идти о каком-либо эпигонстве или подражании. В связи с данным только что обзором этих последних достижений Стравинского, надо еще раз вернуться к Лядову и указать на громадную историко-стилистическую ценность его сборников русских песен (для одного голоса с фортепиано и для хора). Фактуру лядовских переложений ни в коем случае нельзя рассматривать только как писание аккомпанементов к песням и восполнение народного одноголосия. Самые мелодии, которые выбирает Лядов, уже представляют собою напевы, стилизованные собирателями записью на слух, а никак не подлинные песни, и там, где Лядов дает полифоническую обработку — она не адекватна народной, а является искусственным приближением к ней. Так же, как сборники русских песен в обработке Балакирева, Чайковского, Ляпунова, Римского-Корсакова — сборники Лядова (но еще в большей мере) должны рассматриваться как продукты городской художественной лирики на основе народно-песенного материала. Значение Лядова как стилиста-ювелира при таком понимании чрезвычайно вырастает. Он перевел обработку песен в область художественно высокой камерной культуры, отказавшись от превращения песни в бытовой полуроманс. Он приближается [97] к конструктивизму Стравинского всюду, где пользуется напевом как материалом для рационально-технической обработки, а не как стильно-гармонизуемой, т. е. восполняемой мелодией. Из народного напева как конденсатора звуковой энергии вырастает у него новая ткань. Там же, где Лядов склоняется к гомофонному складу и приближает песню к романсу с фигурационным сопровождением, он тем самым оглядывается назад. Конечно, не от этих романсных пьесок (вроде известной колыбельной «Гуленьки»), а от конструктивно-новых стилизаций надо устанавливать несомненно существующий путь от Лядова к «Кошачьим колыбельным» песням Стравинского и другим уже упомянутым его стройным и лаконичным оформлениям народного игрового и прибауточного мелоса. Очень жалко, что Стравинский миновал почти область частушки (элементы имеются в «Байке» и в отдельных деталях песен). Уже Римский-Корсаков в своей стилизаторской замечательной «Сказке о царе Салтане» приблизился к этой любопытной сфере, но попытка эта пока не нашла развития, кроме немногих опытов[27]. Возвращаясь к эмоциональной романсной лирике дореволюционного русского города и к сохранившимся ее современным ответвлениям, надо указать на довольно богато представленную литературу женского лирического романса (Штрейхер, Вейсберг, Львова), о чем уже отчасти была речь в связи с романтическим характером лирики Штейнберга и др. Очень трудно бывает провести грань между камерным романсным стилем и салонным, или даже «домашней лирической импровизацией», а также между романсом, органически претворяющим стих, и романсом «по поводу или после прочтения понравившегося стихотворения». В отношении женского творчества приходится сугубо осторожно определять «масштаб охвата аудитории». При эмоционально интимной чуткости и впечатлительности этого творчества оно редко выходит за пределы ограниченного круга воздействия, и историческая ценность его измеряется скорее в смысле расширения психологического опыта музыки еще новой сферой переживаний, чем в каком ином плане. Эмоционализированная сказка, экзотические экскурсы, экзальтированные вспышки, а рядом неподвижно-монотонные страницы мечтаний — эти и подобные им свойства женской романсной лирики при отсутствии темперамента и оформляющей воли лишают ее упругости. В процессе художественного отбора, в особенности в нашу критическую эпоху, [98] трудно ожидать перелома в сторону общественного внимания к этой многоликой, но в целом монотонной музыке. Среди ленинградских композиторов современного эмоционального романса выделяется Владимир Щербачев. Ведь сила воздействия лирики всегда покоится на постоянном ощущении перехода созерцания в действие, лирического состояния в драму и на остроте и интенсивности восприятия слушателем душевного конфликта, раскрываемого в соревновании вокальной и инструментальной сфер. У Щербачева все это есть. Лучше всего динамизм его лирики вскрывается при соприкосновении с поэзией Блока, и такие вещи, как «Двойник» или «Не спят, не помнят», достигают большой силы выразительности. Щербачев осознает мелодическую линию не внешне инструментально, а на дыхании, в эмоциональном возбуждении, подъеме и чувственном ее наполнении. Отсюда страстный пафос и напряженность его романсов. В мелодике их есть рахманиновские черты, но в еще более нервном и «напористом», «сгущенном» облике. Заслуга Щербачева и идущей за ним школы состоит в подчеркивании самодовлеющего значения в романсе мелодической линии в вышеуказанном вокальном смысле, в противовес доминированию у эпигонов корсаковской школы гармонической ткани, на фоне которой безжизненным узором, расщепленный и бессильный, поникал человеческий голос, причем нередко мелодия превращалась в комплекс гармонических тонов. Здесь надлежит прервать изложение истории развития русского романса, так как оно входит уже в круг идей современности. Глава о романсе оказалась пространной. Это понятно, так как область лирической песни, восходя от низших музыкальных вкусов и интересов к высшим, служит связующим звеном между различными областями проявления музыки и восприятия ее. Многое, что было здесь сказано о психологических и стилистических свойствах романса различных композиторов, будет иметь значение для характеристики тех или иных течений в инструментальном творчестве и повторений не потребует: достаточно будет ссылки. В заключение этой главы, в качестве вывода и в плане социологической оценки современного положения городской романсной и песенной лирики, важно указать на то, что плодотворная эволюция этого рода музыки мыслима только при очень четкой целеустановке, для чего необходимо определить степень потребности и содержание того, что требуется у различных слоев слушателей. Обычное деление стилей городской вокальной лирики принимало во внимание: салон, камерный концерт и различные виды эстрады. За салоном скрывалась еще безграничная почти сфера лирики «домашней». Но город состоит не только из зданий и домов, из концертных зал и комнат. Революция выдвинула значение улицы и площади и создает здесь свою песню (романсу тут уже [99] ие место). Мало этого, образовались новые очаги слушания музыки, не имеющие ничего общего с прежним типом концертов, это — музыка в клубах и в различного рода просветительных организациях. Здесь сталкиваются и песня, и романс, и бойкая частушка, и героическая баллада, романтически претворяющая недавние великие события. Эту сторону лирики еще трудно изучить и обобщить. Необходимо только отметить интенсивный рост ее и стремление к выявлению четких стилистических признаков на смену еще недавнему кустарничеству. Уже перестают путать мертвящий академизм с гибкой живой техникой, без которой нет искусства. Чем больше уходит индивидуалистическая лирика в сторону от улицы, за толстые стены и портьеры, в тишину одиноких созерцаний, тем опаснее становится разобщение между художественным творчеством и вкусами большинства слушателей, ибо тогда на них начинает влиять бульварная и кабацкая музыка низших слоев быта. Молодежь композиторская должна понять, что в борьбе за культуру слушателя (и особенно на завоеваниях вокальной музыки, как наиболее доступной непосредственному восприятию) строится будущее нашей музыки. Молодежь должна предоставить композиторам предшествовавших поколений возможность работы в привычном им плане, но сама должна, не уступая своих художественных принципов, стремиться найти возможно больше точек соприкосновения с массовым слушателем. Дело совсем не в сложности музыки и не в ее левизне. Самая левая музыка может сразу дойти, если ее эмоциональный тон будет отвечать чувствам слушателей. Идеи колоссального политического переворота оказались в Октябре понятными массам — надо было только найти надлежащее им оформление и простые слова. Пора же понять, что существуют различные слои слушателей, и что Моцарт умел быть равно даровитым и великим в коротком жизнерадостном венском вальсе и в сложной симфонии для знатоков. Надо еще понять, что и знатоки слушали музыку его симфоний, а не технические сочетания, т. е. слушали ее так же непосредственно, как те, кто, танцуя под моцартовские мелодии, наслаждались ими и радовались им. Опубл.: Асафьев. Русская музыка. Л.: Музыка, 1968. С. 55 – 99. размещено 1.06.2007 [1] До сих пор оценка первых сборников русских народных песен с сопровождением шла совсем по неверной линии — либо узкоэтнографической, либо узкоэстетической, но в том и другом плане на главное место выдвигалась забота о чистоте и сохранности народной песни как таковой. Отсюда — при отсутствии исторической перспективы — те досадные и наивные упреки в порче песен, в непонимании их склада и строя, которые сыпались на головы первых составителей сборников — вовсе не ученых этнографов и вовсе не эстетически настроенных композиторов, а просто аранжировщиков-перелагателей. Они не могли в этот первый период взаимодействия песенной деревенской и городской нарождающейся вокально-инструментальной культуры поступать иначе, чем поступали, т. е. приспосабливать одну сферу музыкальных интонаций к другой. Только теория музыкального прогресса и вера в то, что наше время-де знает песню, а раньше ее не понимали, могла, например, внушить музыкальному этнографу С. Рыбакову (т. XXVII Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона [полутом 53]) такого рода отзыв об упомянутом сборнике Прача: «Гармонизация совсем не подходит к духу песен, сделана в западноевропейском духе и далеко не часто может назваться удачной». Дело в том, что тогда живая деревенская песня звучала еще в столице на каждом шагу. Поэтому, конечно, о ее целости заботились, меньше, чем о том, чтобы рационально культивировать ее с помощью западноевропейских приемов обработки. Песня с сопровождением была тогда любимым жанром в Германии. Европейский город создавал свою городскую песню (Lied) часто на материале народной, но вовсе не в целях ее охраны. Это надо понять, иначе весь процесс взаимоотношения песенной деревенской и городской культуры предстает в ложном свете. Тут процесс органический и всегда протекающий, а не отдельные моменты собирания и приспособления. В Петербурге в конце XVIII и в начале XIX века обмен песнью столицы с деревнями и вообще провинцией был очень сильным в силу экономическо-хозяйственных условий (крепостное право, доставка в столицу припасов, сгоняемые на стройку крестьяне, усадебные хозяйства в самом городе— дома вельмож — были похожи на поместья и т. д.). Нередко было, что и сочиненная в городе песня шла в народ. До сих пор во всех историях всех музык чрезвычайно мало обращали внимания на устный обмен музыкальными интонациями, на странствование напевов, на проблему накопления интонаций в памяти некоей общественной среды и класса и т. д. и т. д. Между тем, в частности, музыкальная культура петербургского периода русской истории и особенно культура вокальная совершенно недооценивается, если не вникнуть в образование ее интонационной базы. Отсюда вытекло очень привившееся с легкой руки покойного В. Г. Каратыгина обозначение одного из исторически естественно сложившихся жанров городского-песенного романса — сентиментального романса 40—50-х годов «псевдорусским». Он такой же «псевдорусский», как вся архитектура Петербурга в сравнении с московским барокко, а последнее с деревянным зодчеством Севера или как псевдонемецкие многие Lieder Шуберта в сравнении с деревенскими песнями Австрии. Процесс всасывания и поглощения городом деревенских интонаций и превращения их в свои был и у нас одинаковым. Разница в характере и оттенках культуры, а не в сущности. И точно так же как в Германии, широко распространенные в XVIII веке сборники песен с сопровождением привели в итоге к расцвету городской Lied романтиков (все более и более уходившей от народных интонаций по мере движения от Шуберта к Гуго Вольфу и опять не раз приникавшей к ним для освежения)—и у нас подобное явление привело сперва к лирике Алябьева, а потом к Чайковскому и т. д. А параллельно продолжала развиваться урбанизированная народная песня с сопровождением, меняя от начала XIX века к 30-м годам и далее к 50-м свой облик от сборника к сборнику (Кашин, Рупини, Бернард, Стахович, Вильбоа), пока не доразвилась до сборника Балакирева (1866). За ним уже последовали сборники, в которых характер инструментального сопровождения изменился: песенная мелодия стала диктовать свою волю (сборники Римского-Корсакова, Лядова и др.). Надо понять, что и в этом виде дело все-таки шло о дальнейшей эволюции городской песни с сопровождением, окончательно здесь обособившейся от песенного романса, а не о культуре деревенской песни как таковой, т. е. налицо все же был и оставался момент приспособления. Улучшалось только стилистическое качество сопровождения. Только один человек, Н. Е. Пальчиков, в 1888 г. впервые так смело и обоснованно выдвинул вопрос о полной самостоятельной ценности народной песни как вариантного образования в своем сборнике «Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке, Мензелинского уезда, Уфимской губернии». В этом сборнике песни изданы в виде свода вариантов без всякого чужого и чуждого сопровождения. Вот исторически важный и ценный момент в истории собирания русской народной песни и понимания ее значения. Вот отправная точка к научно-исследовательскому восприятию и оценке деревенской песенной культуры. Сборники же песен с сопровождением являлись своеобразным видом приспособления песни к вокально-инструментальной городской музыкальной культуре. Их развитие шло параллельно романсу, некоторые ветви которого были почти неотделимы от песенного ствола. Почему у нас этот жанр песни с сопровождением (да еще с обозначившимся с середины 60-х годов стремлением к большему сближению ее с подлинной песнью) так упорно и последовательно развивался, несмотря на существование уже самостоятельной культуры романса? Ответ понятен: причина — в сохранности и непрекращавшемся творчестве деревенской песни в земледельческой и экономически отсталой стране, какой была Россия XIX века. Крестьянская песня не настолько обеднела и иссякла, а музыкальная культура города не настолько «урбанизировалась», чтобы питание свежим песенным материалом могло прекратиться. Город же, наоборот, уже с 80-х годов стал давать деревне только музыкальные «отбросы» трактирной и бульварной музыки. Итак, оценка сборников песен с сопровождением, в особенности ранних, да и всех последующих, должна идти не в музыкально-этнографическом плане и не в виде чисто эстетической или же научно-исследовательской проблемы сравнительного музыкознания, а в историко-стилистическом: песня в городе, в обрамлении городского инструментализма есть новое образование, новый слой, новый жанр, подобно тому, как в папском Риме памятники, выстроенные из материала разрушенных античных памятников, суть новые художественные явления. Поэтому нет ничего наивнее попыток восстанавливать по напевам песен с сопровождением народные песни той эпохи, о звучании которых мы не знаем, и сетовать на то, что первые собиратели (да они, в сущности, и не собирали песен в нашем понимании этого дела, а записывали то, что «бытовало» вокруг) искажали и извращали песню. Конечно, уже то, что песня идет йод чуждое ей сопровождение и поется на один голос без подголосков — уже принципиальное искажение, но на деле полезнее для истории русской музыки посмотреть на этот факт с другой стороны и понаблюдать, как происходил процесс всасывания и поглощения песенного мелоса городом и как слагались новые мелодические образования. Именно этот процесс великолепно поддается изучению на сборниках песен с сопровождением. Чему он учит? Первое: взаимоотношению великорусского и украинского мелоса, их слиянию и началу их нивелирования под воздействием иностранных интонаций- (итальянская оперная кантилена, сентиментальный французский романс, песенки немецкого зингшпиля) — это конец XVIII и начало XIX века. Второе: образованию, начиная с первых десятилетий XIX века, нового романсного стиля, в котором можно проследить два направления — одно из них создает бытовой и почти не отличимый от песен с сопровождением романс с элегической мечтательной или буйно веселой окраской мелоса (уже не без влияния нового бытового элемента — цыганской песни), другое направление вызывает художественно выразительный романс более индивидуального характера, образующийся под несомненным иностранным воздействием и в котором происходит уже полное поглощение чисто песенных народных элементов мелодией в западноевропейском ее облике. Кроме того, в чисто мелодическую фактуру начинают вливаться элементы декламационные. Одновременно продолжает свое развитие, испытывая ряд преобразований, песня с сопровождением. Надо еще учитывать влияние театральной музыки, от оперы до водевиля с его куплетами, на все виды песенного и романсного творчества. Таким образом, можно обобщить сказанное в следующей схеме: 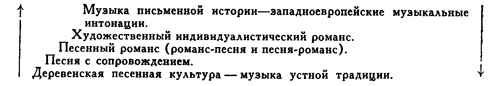 Деревенская песенная культура и западноевропейские интонации как два притягивающие и «излучающие» материал центра. От нижнего центра и от верхнего исходит распространение музыкальных интонаций — динамический сложный процесс (обмен, взаимодействие, отбор). Но в одном направлении движется музыка устной традиции, в другом — музыка письменной истории. Это сухая схема. Здесь надо учесть еще одно важное обстоятельство: изменения в социальной среде, в классовом и в культурно-интеллектуальном «составе» поглощающих романс слушателей. Например, Глинка еще целиком в сфере пушкинской художественной культуры аристократического салона. Алябьев — многогранен как никто, потому что круг его слушателей — шире и разнообразнее. Варламов и Гурилев — уже целиком пребывают в сфере романса и песни средней интеллигенции и верхнего слоя мещанства. Даргомыжский — крайне разнообразен, ибо его «салон» уже не аристократический салон Пушкина, Жуковского, Одоевского, но и не «богема» Кукольника — Глинки. Его салон — чиновно-служилый и интеллигентский, снисходящий до мелкого чиновника и разночинца. В музыке его романсов на первом плане все характерное. Но уже тематика романсов Алябьева крайне многолика и разнообразно содержательна. То же у Даргомыжского: от Пушкина и Лермонтова до цыганской песни и юмористических куплетов. Просмотр песенно-романсной литературы, обращавшейся в быту средней интеллигенции, мелких службистов и мещанства, показывает, что к 50-м годам круг тем и сюжетов очень расширяется и что еще до «Калистрата» (1864) Мусоргского в бытовом романсе фигурировали сюжеты и тексты, предварявшие его стремления к выражению в музыке горькой доли бедняка вообще и всех униженных и оскорбленных. Как в литературу, так и в музыку входит «разночинец». Мусоргский драматизирует художественно-индивидуалистический романс, превращая его в сцены и в циклы, воплощающие характеры, типы, ситуации и объединенные единой поэтической идеей. В то же время Чайковский идет по пути смешения художественно-индивидуалистического и песенно-бытового романса всех его видов (сентиментального, «жестокого», наивно-мечтательного, созерцательно-элегического, цыганского эмоционально возбужденного и т. д.). Лирика Чайковского оказывается близкой громадному общественному слою — от знати и высших и средних слоев чиновничества до мелких службистских семейств и мещанства, потому что она впитала в себя множество интонационных навыков предшествующих десятилетий, когда слагался песенно-романсный диалект обоих столиц. Это очень чуткий и близкий к бытовому музицированию слой музыки и потому-то на нем особенно удобно изучать воздействия на музыку социально-бытовых условий. Когда в 1897 г. Римский-Корсаков инстинктивно почувствовал необходимость посочинять романсы, любопытно, что он пошел не по линии Мусоргского и Даргомыжского (характерное в быту и в человеке), и не по линии лирико-бытового романса Чайковского, и даже не к любовной стихии и богеме Глинки, а выбрал путь романса с художественно-идеалистическими концепциями (лирика сдержанного высокого чувства; лирика музыкального пейзажа; образы античности). Это было показателем нарождения среди столичной интеллигенции слоя слушателей, которому вновь, как пушкинскому салону, уже не чужды были ни отвлеченные образы красоты, ни культура эстетизма. Эта культура вскоре (в XX веке) привела к доминированию художественного интеллектуализма и к временной победе эстетствующего, «вкусового» модернизма с полным отрицанием непосредственного эмоционального высказывания (борьба против Чайковского, как против «дурного вкуса»)— это годы после первой революции и до приближения второй. Эпоха эстетизма, выступив против одного эмоционалиста, тем не менее «открыла» другого: Мусоргского, не расслышав в нем за новизной сочетаний и «вкусовыми» раритетами голоса живого чувства. Правда, Мусоргский шел у модернистов рядом с Дебюсси и юный дерзостный Прокофьев рядом с Шёнбергом, но (хвала всепримиряющему острому вкусу!) эта эпоха сделала свое великое дело, сильно обновив притоком неслыханных или забытых интонаций столичную романсную культуру, и, главное, вновь приобщив ее к высокой поэтической культуре. [2] Не могу не привести отзыва о напеве «Голубочка» Дубянского, который дает Карамзин в письме к поэту Дмитриеву от 17 августа 1793 г, как образец тогдашних мнений: «Итак, голубок твой ожил в Петербурге! Ты знаешь, как я люблю его. Только голос мне не очень полюбился: уныло, но выражение слабо. Музыка другой твоей песни гораздо лучше…» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1886, стр. 42). [3] Слепец, автор музыки на популярный текст Мерзлякова из мелодрамы «Велизарий»: «Малютка, шлем нося, просил», ряда других романсов (изданных в Петербурге в 1814 г.) и сборника русских песен, полонезов и маршей для фортепиано. [4] Напомню о самых разнообразных вокальных концертах, умножившихся во время войны, посвященных не только выдающимся мастерам городской художественной песни (Глинка, Даргомыжский), но и «младшим сотрудникам». В этом отношении эпоха эстетизма («Мира искусства» в музыке) сделала много хорошего. [5] Милий Алексеевич Балакирев (род. в 1836 г. в Нижнем Новгороде, ум. в 1910 г. в Петербурге). Учился в нижегородской гимназии и нижегородском Александровском дворянском институте. С детства обнаруживал музыкальные способности и быстро выучился игре на фортепиано. Первые яркие музыкальные впечатления Балакирев получил в доме помещика Улыбышева, большого любителя и знатока музыки, автора биографии Моцарта. Там Балакирев начал дирижировать оркестром. Побывав в Казани (два года на математическом факультете университета), Балакирев в 1855 г. переселяется в Петербург и знакомится с Глинкой. В 1856 г. Балакирев выступил как пианист и композитор (концертное Allegro fis-moll) в одном из тогдашних университетских концертов. Около этого времени с Балакиревым знакомятся Даргомыжский, Кюи (1856), Мусоргский (1857). В 1857—1858 годах сочинены: Увертюра на три русские темы. Увертюра на тему испанского марша и музыка к «Королю Лиру». В 1858—1859 годах появляются 14 романсов, заключающие в себе лучшие образцы вокальной лирики Балакирева. Энергичный, властный, начитанный, владеющий острым критическим чутьем и удивительной музыкальной памятью и слухом, Балакирев стягивает вокруг себя даровитых юношей композиторов и становится руководителем кружка (Новая русская школа, Могучая кучка, балакиревский кружок). В 1861 г. к кружку примыкает Римский-Корсаков. Лозунги «кучкистов»: правда выражения и народность в музыке. В 1862 г. Балакирев вместе с Ломакиным основал Бесплатную музыкальную школу. В 1866 г. издал сборник записанных им на Волге народных песен (1861—1865). Впечатления от Кавказа содействовали внедрению в творчество Балакирева элементов ориентализма («Ис-ламей», фантазия для фортепиано, 1869, и симфоническая поэма «Тамара», 1882—1884). К 60-м годам относятся еще сочинения для оркестра (увертюры «1000 лет» и «Чешская»), в которых сказываются славянофильские воззрения Балакирева. В 1867 г. он дирижирует в Праге «Русланом» и приглашается дирижировать концертами Русского музыкального общества в Петербурге. Пережив в течение 1874—-1881 годов тяжелый душевный кризис после ряда неудач и страшной борьбы с врагами и нуждой, Балакирев вновь активно вступает в музыкальную жизнь и с 1883 по 1894 г. энергично работает на посту управляющего Придворной певческой капеллой. С 1894 г. отдается всецело творчеству, частью редактируя или завершая прежние сочинения, частью создавая новые. К этому периоду относятся много пьес для фортепиано, два цикла романсов, две симфонии (C-dur и d-moll), соната для фортепиано, Концерт для фортепиано с оркестром, Es-dur (закончен С. М. Ляпуновым), второй сборник народных песен и т. д. [6] Сергей Михайлович Ляпунов (род. в 1859 г. в Ярославле, ум. в Париже в 1924 г.) учился в Московской консерватории (в 1883 г. окончил), с 1885 г. поселился в Петербурге и испытал сильное влияние Балакирева. В 1893 г. ездил в экспедицию для записи русских народных песен в Вятскую и Вологодскую губ. от Русского географического общества. С 1894 по 1902 г. был помощником управляющего Придворной певческой капеллой. Затем работал в Петербургской консерватории как профессор по классу рояля и теории композиции, а с 1919 г. читал ряд курсов на музыкальном отделении Государственного института истории искусств. Из сочинений Ляпунова выделяются баллада и симфония h-moll для оркестра, симфоническая поэма «Гашиш», два концерта для фортепиано с оркестром, скрипичный концерт, секстет, 12 виртуозных этюдов для фортепиано (12 etudes d”execution transcendante) и много пьес для фортепиано и романсов. [7] Новое издание романсов Мусоргского по авторским рукописям (под ред. П. А. Ламма) вскрывает такое интонационное богатство, глубину психологического анализа и силу и остроту характеристик, что можно думать, что ближайшие годы будут годами усвоения и изучения эмоционально-выразительного мастерства композитора именно в этой, столь характерной для него сфере. [8] «Без солнца» — альбом стихотворений Голенищева-Кутузова (1874) — заключает в себе шесть пьес: «В четырех стенах», «Меня ты в толпе не узнала», «Окончен праздный день», «Скучай», «Элегия», «Над рекой». [9] Я бы назвал близкими концепции Бородина две «сдержанные вещи»: «Ich grolle nicht» Шумана и «Сомнение» Глинки. [10] Еще несколько пародий Бородина на сочинения своих друзей и собственные остались незаписанными. [11] Назову только наиболее ценные отдельные романсы и циклы: «Эолова арфа» (1867), «Мениск» (1868), «Смеркалось» (1876), «Истомленная горем» (1868), «Моя баловница» (1877) и ряд других пьес 70-х годов на слова Мицкевича, а также французских поэтов Гюго, Мюссе, «Vingt poemes de Jean Richepin» (1890), «25 стихотворений Пушкина» (1899), «21 стихотворение Некрасова», 13 детских «музыкальных картинок» (1878) — лучшая из нескольких последних серий песен для детей (увы, большей частью, эти «старческие песенки для послушных деток» страдают слащавостью и бедностью изобретения). [12] На некоторые особенно полюбившиеся тексты Гейне писалась музыка по нескольку раз различными композиторами (например, «Из слез моих» — Кюи, Лядов, Бородин, Римский-Корсаков; «Во сне неутешно я плакал» j— Кюи, Лодыженский; «Дитя, как цветок, ты прекрасна» — Дютш, Рубинштейн, Рахманинов; много романсов на стихотворение «Сосна» Гейне — Лермонтова и т. д. [13] Назовем циклы: на тексты Гейне (ор. 32, «Шесть песен», с знаменитым «Азрой»); на тексты Эйхендорфа, Ленау, Гейбеля, Гейзе (ор. 76, «Шесть песен», включая две, принадлежащие к числу лучших у Рубинштейна: «Bedeckt mich mit Blumen» и «Klinge, klinge, mein Pandero» из «Spanisches Liederbuch» Гейбеля и Гейзе); «Zwolf Lieder des Mirsa-Schaffy, aus dem Persischen v. F. Bo-denstedt» — замечательные две тетради «Персидских песен» (ор. 34); некоторые песни из ор. 72 (например, «Es blinkt der Thau» — «Блестит роса») и из «Реквиема Миньоне» («Die Gedichte und das Requiem fur Mignon aus Goethe”s «Wilhelm Meister”s Lehrjahre»). [14] Следует обратить внимание на характерные рахманиновские акцентированные начала многих романсов — приступом, наскоком с подчеркнутым ямбом и повелительным тоном, как зов, окрик, пробуждение. Этот пафос конца 90-х годов и первых предреволюционных годов XX века слышался и в литературе, например в ранних рассказах Горького, по-различному выраженный, но один и тот же по смыслу: порыв вдаль, к неизвестному, стремление сдвинуться, сорваться и помчаться прочь от застоявшейся жизни. Именно c-moll”ный пафос Рахманинова, особенно в его Втором концерте, явился полным и ярким выражением этого чувства протеста. [15] Трудно охарактеризовать точными словами этот ветвисто-напевный вид специфически рахманиновской полифонии, где каждая «восьмая» поет и длится (Рахманинов это тщательно вычерчивает) в голосе и в сопровождении и где мелодия вьется, цепляясь звено за звено. «Вокализ» — удивительное по мелодическому развитию произведение. [16] Николай Карлович Метнер род. в Москве в 1879 г. [ум. в 1951 г.]. Вырос в культурной семье и встретил еще мальчиком полную поддержку в отношении своих музыкальных стремлений. Метнер учился в Московской консерватории в 1892—1900 годах и дважды, в 1909/10 и 1914—1921 годах, состоял там профессором фортепианной игры. Романтические сказки и сонаты и другие характерные пьесы для фортепиано, а также циклы песен (Гёте, Тютчев, Пушкин) составляют основной и, можно сказать, исчерпывающий круг его сочинений. С 1921 г. Метнер живет за границей, посвятив себя творчеству и концертно-исполнительской деятельности. [17] Георгий Львович Катуар (род. в Москве 15 апреля 1861 г., скончался там же 21 мая 1926 г.) всю почти жизнь боролся за признание, переходя от периодов глубокого отчаяния к новым усилиям, среди равнодушия и невнимания к своему музыкальному дарованию сперва со стороны родных, а потом музыкантов разных толков (только в Чайковском Катуар встретил поддержку). Катуар много и у многих учился (начиная с уроков фортепиано у пианиста Клиндворта, друга Вагнера). Вскоре по окончании математического факультета Московского университета (1884) он уехал в Берлин, где занимался и фортепианной игрой и теорией композиции. Но все еще считая себя технически не вполне крепким. Катуар пробовал в России брать уроки у Римского-Корсакова и Лядова (ок. 1888 г.). Со струнного квинтета ор. 16 Катуар начинает находить верную дорогу и свой музыкальный язык. Период времени от 1906 г. по первые годы революции — расцвет в его творчестве (концерт для фортепиано, фортепианный квинтет, фортепианный квартет, циклы лирических песен на тексты Верлена, Тютчева, Бальмонта и Соловьева). Как теоретик Катуар известен своим «Теоретическим курсом гармонии» (изд. в 1924 г. в двух частях). [18] Но все-таки заметно, что лирика Рахманинова становится и сосредоточеннее и изысканнее к последним его романсным opus”aм (op. 34 и 36). Лирика Метнера — вся в созерцании и в культурном благоговении к великим поэтам. Лирика Катуара — замкнутая, себедовлеющая. Этот путь «интимизации» романса заходит даже дальше первых годов революции. [19] Анатолий Николаевич Александров (род. 13 мая 1888 г. в Москве) в 1910 г. поступил в Московскую консерваторию по классам фортепиано и теории композиции (окончил по фортепиано в 1915 г., а по композиции в 1916 г.). Военная служба приостановила на некоторое время его музыкальные занятия. С 1923 г. Александров — профессор Московской консерватории. Написал ряд фортепианных произведений (сонаты), циклы романсов, струнный квартет, сюиту из музыки к пьесе Метерлинка «Ариана и Синяя борода» (для оркестра) и т. д. [20] Михаил Фабианович Гнесин род. в 1883 г. в Ростове-на-Дону [ум. в 1957 г.]. К музыке стремился с детских лет. В 1899 г., окончив реальное училище, Гнесин поехал в Москву, но попасть в консерваторию ему не удалось. Только в 1901 г. поступает в Петербургскую консерваторию, где остается до 1908 г. С 1909 г. Гнесин сотрудничает с Мейерхольдом (музыка к античным драмам), ведет музыкальную работу в провинции (лекции, доклады), совершает большую поездку за границу, а в 1914 г., перед войной,, посещает Египет и Палестину. С 1914 г. по 1921 г. опять интенсивно работает в области музыкально-общественной и музыкально-педагогической в Ростове-на-Дону. В 1921 г. опять уезжает в Палестину. С 1923 г. живет в Москве и работает в музыкальном техникуме имени Гнесиных и в консерватории. Кроме вокальной камерной лирики, музыки к театральным пьесам и замечательной оперы-поэмы «Юность Авраама», Гнесиным написан ряд инструментальных композиций: Соната-баллада для виолончели с фортепиано, «Requiem» — квинтет для фортепиано, скрипок, альта и виолончели, «Песнь о древней родине» — поэма для оркестра, «Симфонический монумент»-для оркестра и хора и т. д. [21] Отдельные удачные романсы встречаются в лирике Акименко, Золотарева, братьев Блуменфельдов, Соколова, Спендиарова, но для подробного анализа их здесь не остается места, поскольку в этих течениях наблюдается только более или менее самостоятельное отражение общих данной эпохе тенденций и вкусов, а не рост новых принципов оформления или изобилие нового материала. Они все — робкие «личные» лирики и скорее закрепляют найденное, чем ведут к дальнейшим завоеваниям. [22] Необходимо здесь указать еще на ориентальные мотивы в лирике Спендиарова. [23] Эта лирическая замкнутость при еще большей хрупкости и нежной чувствительности сказывается почти у всех композиторов, сочетавших симпатии к лирическим настроениям корсаковской музыки с модернистскими влияниями эпохи «Мира искусства», символической поэзии, оранжерейной атмосферы, свойственной камерной музыке импрессионизма, и т. д. Объясняется это тем, что как романтическая уютность песен Штейнберга на стихотворения Тагора, так и усталая мечтательность лучших романсов Любови Штрейхер, Юлии Вейсберг, Карповича, затем Житомирского и других — словом, вся эта «тепличная» или «лунная» лирика при всей ее изысканности и культурной зрелости носит в себе что-то, вызывающее сейчас внутренний отпор: это что-то в том, что в ней звучит испуг жизни, в ней сумеречный отраженный свет и зябкие настроения. «Страдалицы-девушки и жалостливые женщины» опер Римского-Корсакова гораздо жизнерадостнее, чем их преемницы, отраженные в романсах. Можно сказать, что нестеровские мечтательницы и призрачные женские образы Борисова-Мусатова нашли здесь свое поблекшее вторичное перевоплощение. [24] Суровом и дисциплинированном. [25] Те же состояния, но не в плане «народнических интонаций», проявлены в двух стихотворениях Бальмонта для голоса с фортепиано («Незабудочка-цветочек» и «Голубь», 1911) и в кантате «Звездоликий» (1911—1912, тоже текст Бальмонта), посвященной Дебюсси. [26] Конечно, детские песни ни Лядова, ни Стравинского, ни Мусоргского не имеют отношения к многоликой литературе детского салонного романса и песен «детской комнаты» (Кюи в своих последних сборниках и т. п.). [27] Саратовские частушки Рязанова — опыт конструктивного преломления собственных записей. Затем ряд стилистически смешанных опытов использования этого и других видов народного искусства в работах композиторов (Красева и др.), группирующихся вокруг заданий агитационно-просветительного отдела изданий Музсектора Госиздата. По-видимому, сильное основное направление выкристаллизуется здесь в связи с содержательной и выразительной лирикой композитора М. Коваля. (3.6 печатных листов в этом тексте)
|
ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ > news > Текст музыки > Музыкальные эпохи > XIX в. > Борис АСАФЬЕВ Русский романс XIX века (146.58 Kb)
