Сергеева Татьяна Павловна — российский музыкант и композитор, член Союза композиторов России (Москвы) с 1982 г., Заслуженный деятель искусств России. В настоящее время — ответственный секретарь Союза Композиторов России.

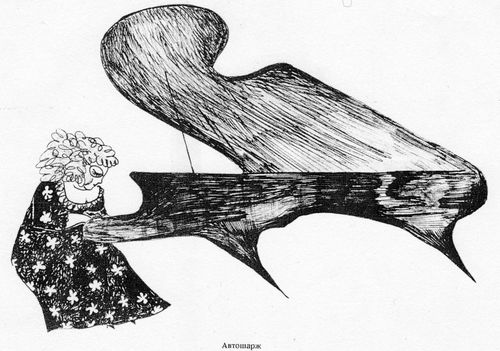
[20]
— Расскажите, пожалуйста, о своем развитии в детстве как музыканта.
— У нас был старый рояль моей бабушки. На нем никто не играл, потому что мои родители — не музыканты. Меня тянуло к роялю со страшной силой. Видя это и “идя навстречу пожеланиям”, родители отдали меня в ДМШ (имени Дунаевского, неподалеку от дома), а семи лет в ЦМШ.
— А сочинять когда Вы стали?
— Тогда же, когда учиться играть. Позже начались систематические серьезные занятия по композиции. Моими учителями были А.Быканов и Г.Гладков. Писалось тогда легко, быстро, бурно и много. Лет в шестнадцать этот “фонтан” вдруг закрылся сам собой, и я решила, что это все. Подобно тому, как все пишут стихи в отрочестве, потом прекращают, никогда не возобновляя. Переживала. После двух-трехлетнего перерыва стали получаться маленькие алеаторические линеарные пьески. Тогда же поняла, что рояль мешает сочинять, с тех пор пишу без него. Потом свою же музыку приходится учить. Студенткой четвертого курса фортепианного факультета консерватории поступила в класс композиции А.Николаева. У него затем закончила аспирантуру. Алексей Александрович — высокий профессионал, прекрасный педагог, не диктующий, но ведущий, помогающий найти себя.
— Вы производите впечатление художника, для которого свобода — не пустой звук и не соблазнительная декларация. Так ли это? Я имею в виду не социальное понятие, а внутреннее ощущение, отраженное в творчестве. Скажем, непричастность всяким догмам, непринужденная переплавка признаков разных стилей, несоблюдение принятой иерархии жанров — “”высокие”- “низкие”. Даже в построении формы Вы предпочитаете, судя по всему, фантазийность, поэмность. То есть импровизационный характер проникает как в интонирование, в произнесение текста, так и в построение формы. И eщe — скажите несколько слов о сочетании свободы и необходимости в Вашей работе.
Это сочетание не всегда было одинаковым в жизни. В молодости особенно важной и “необходимой” была именно необходимость. Поэтому я охотно писала то, что можно шикарно обозначить словом “заказ”. Например, подруга-инструменталистка просила написать для ее инструмента пьесу на столько-то минут, такой-то трудности и даже использовать больше определенные регистры, струны и т.д. Эти так
[21]
называемые заказы (да еще к определенному сроку) помогали дисциплинировать мысль, войти в берега, познать инструмент и незамедлительно услышать написанное. Сейчас больше дорожу свободой. И даже когда предлагаются серьезные заказы, необходимые в жизни по многим причинам, мне все труднее их выполнять. Что же касается исполнительской работы, то в основном это приятная необходимость. Абсолютна свободна я лишь в выборе программы нескольких сольных концертов в сезоне. Остальное — это предложения сыграть определенные сочинения. Свобода же в философском плане… Свободное состояние души — пока оно есть.
— Ваша музыка — так во всяком случае ее воспринимаю я это вызов бесконечному нытью, самокопанию, кабинетной субъективности. Насколько это сознательная позиция или такова Ваша природа, свойство натуры, что ли?
— Нет, это не позиция, не вызов, а скорее именно ощущение мира.
— Ваше понимание — и для себя как художника и для других авторов — соотношения полистилистики и моностиля. Что для Вас сейчас более актуально и стремитесь ли Вы полистилистику превратить в моностиль?
— Да, я стремлюсь из очень многого и разного сделать что-то свое и единое. Чтобы идея была сильнее манеры. Это получается не всегда.
— Можете ли Вы и хотите ли сформулировать, как рождается музыкальный образ у Вас? Я помню, что В.Сильвестров на аналогичный вопрос ответил мне: сначала в его сознании возникает некое неоформленное световое пятно и только позже оно обретает звуковые очертания и определенную форму. Испытываете ли Вы что-то подобное?
— Нечто другое. Образ-мысль-звук, идущий часто от поэтического словесного стимула и уже связанный с тембром. Поэтому у меня намного меньше вокальной музыки, чем инструментальной: инструментальная является внутренне как бы вокальной, связанной со словом.
— Значит, Вы материал, или, точнее, тематизм сразу слышите в определенном инструментальном оформлении, то есть тембровый слух для Вас чрезвычайно важен?
— Да, инструмент и тему трудно или невозможно отвязать друг от друга.
— По моему представлению, фактурное оформление материала для Вас не менее существенно индивидуально, чем тембровое. Насколько это действительно так?
— Фактуру я воспринимаю равной материалу, то есть это разные проявления одного и того же, одно состоит из другого.
— То есть так называемые общие формы движения для Вас как бы не существуют?
— Да, стараюсь их не применять.
— Что Вам помогает в жизни реализовываться как музыканту, есть ли такие вещи, бытовые или творческие?
— Есть свободное время, пятый год нигде не служу. Во всем в жизни мне помогает мама: и в глубоких душевных, и в элементарных бытовых моментах, мы как подруги. Что еще? Может быть, отсутствие трепетного отношения к своей персоне в искусстве. Это помогает и в жизни, “облегчает” характер и даже смягчает разного рода неприятности.
— Способность сосредоточиться на том, что в данный момент самое важное — Ваш дар природы?
— “Дар“ — это слишком… Постепенно пришла к выводу, что в резерве есть (думаю у всех есть) способность особого “разогрева мозгов”. Длительное время пользоваться этой способностью было необходимо. После окончания фортепианного факультета моя исполнительская карьера складывалась неудачно. Было даже желание уехать из Москвы (но не на Запад, как это ни странно, а куда-нибудь поглуше и посевернее, где бы мое исполнительство было нужно). Но везде требовались “концертмейстеры с предоставлением койки в общежитии”. Поэтому я стала концертмейстером в Москве. Работы было много, и она увлекала первое время, особенно в классах симфонического дирижирования (Б.Хайкина, Г.Рождественского). Одновременно начала много выступать, но исключительно с репертуаром новой музыки советских композиторов, следуя “заветам” Стивы Облонского:“Не обижаться, не завидовать, не отказываться”. Играла с большим удовольствием все на память, выучивая произведения в рекордно быстрые сроки, утоляя свой “сценический жар”. В то же время сдавала экстерном предметы композиторского факультета. Тогда и научилась “нырять” в предмет, отключаться от остального, освобождаться, как будто — ничего страшного и впереди много времени, учить нотные тексты в транспорте, читать с листа, включать “большую скорость” мозга. Сейчас, когда с возрастом, а отчасти и сознательно, темп жизни замедляется, нет — увы! — той бурной энергии, когда играю меньше (только то, что особенно близко), пользоваться этой способностью не так необходимо. (И хорошо!) А в сочинительстве — никогда я никаким трудом не могу ускорить процесс; “собираю хворост”, по выражению Гёте, и жду, когда Бог (Аполлон!) подожжет костер.
— По прослушиванию Вашей музыки мне показалось, что у Вас большое тяготение к театру. Это так? Во всяком случае по разным признакам — монтажности ли драматургии, склонности к пространственным решениям, персонификации инструменто-персонажей и т.п.. рождается четкое осознание вкуса к театральности. Того же, кажется, происхождения остроумие Вашей музыки, парадоксальное сочетание в ней серьезного и шутейного, не всегда ясная грань между ними, игра, подчас высокая, как способ мировосприятия, наконец, явная маскарадность, проникающая в творчество (тут близким Вам слышится И.Стравинский), что прослеживается не только в Вашей музыке, но и в живописи (манера представлять, скажем, знакомых и родственников в виде античных героев), вообще склонность к разного рода стилизациям. Однако театра как такового в Вашем творчестве нет. Почему?
— Я только два раза писала музыку для спектаклей драматической сцены. Это очень не понравилось. Режиссеры командуют, диктуют. В целях экономии и следуя моде, требуют использования синтезатора — и только. Синтезатор я терпеть не могу, то есть это прекрасный инструмент, но после трех-четырехчасовой работы с ним начинается мигрень и притупляется слух, хотя работать на редкость легко. Опера — другое дело. Вот уже лет двадцать, как мне грезятся разные оперные сюжеты: по какой-нибудь пьесе И.Тургенева или старинному водевилю. Но не берусь. Огромный труд, и почти уверена — пропадет впустую. Вот написать бы для театра Б.Покровского — для маленькой сцены, для небольшого оркестра, для прекрасно двигающихся певцов-актеров… А балет почему-то не хочется писать, хотя танец, как процесс театра, движение, любое проявление Терпсихоры необыкновенно волнуют.
— Существуют разные жанры — тем более Вы очень изобретательны — синтетические, в которых можно предусмотреть и балетную специфику. Есть, к примеру, у Эйно Тамберга опера “Парение” по “Барьеру” Вежинова. Здесь балетные сцены и самые сильные по музыке, и самые важные по драматургии. И поставила это произведение, кстати, балетмейстер Май Мурдмаа. Так что в принципе Вам можно было бы также обратиться к синтетическому жанру.
— Все может быть.
— Как обогащают Вас занятия творчеством и исполнительством, насколько Вы задумывались над этим?
— Мне кажется, эти занятия существуют параллельно, принося чувство полноты жизни.
— Однако со стороны возникает четкое представление, что творчество и исполнительство тесно взаимосвязаны в Вашем искусстве. В частности, Вы играете чужую музыку как композитор. Например, это очевидно в фортепианной сонате Щедрина, в пьесе Каретникова. Вы всегда по-своему выстраиваете сочинение, создаете как бы свою тембровую палитру, словом, со-творяете его. Для меня даже характерна Ваша любовь к Листу — к музыканту, сочетающему исполнителя и композитора, к выдающейся личности, которая исповедовала солидарность к чужой талантливой музыке, считала за честь открывать таланты (вспомним Вагнера).
Возможно, конечно, что все это происходит в Вас на подсознательном уровне. Кстати, Ваша склонность к транскрипциям
[22]
тоже, по-моему, объясняется композиторским происхождением. Вы из транскрипции словно делаете свою дополнительную транскрипцию, получается как бы двойная транскрипция.
— Вот классический пример двойной транскрипции: Фантазия Листа на темы оперы “Дон Жуан“ Моцарта в редакции Бузони. Бузони создает новую инструментовку этой пьесы — для мощного оркестра с усиленной медью — и даже не столько с помощью нот, сколько ремарками.
— Как исполнитель Вы выбираете сочинения по пристрастиям или по каким-то другим соображениям?
— Что касается великой музыки прошлого, то мои пристрастия слишком широки, чтобы быть пристрастиями. Проще назвать двух-трех авторов — классиков XX века, играть которых не хотелось бы именно из-за отсутствия пристрастия. А что касается музыки сегодняшней, то играю ту, что духовно близка или интеллектуально интересна, а также из чувства дружбы и солидарности к коллегам. Прежде всего я должна полюбить сочинение, за которое взялась, по принципу: “Полюби ближнего как самого себя”. Бывает, правда, что берешься играть из дружеских чувств, а потом искренне увлекаешься художественными задачами. Например, я взялась играть Фортепианный концерт Инны Жванецкой. Когда начала учить, мне показались даже парадоксальными те несколько страниц, где играет только левая рука по одной ноте в такте. Но потом эти скупые ноты потрясающе вплелись в оркестровую ткань, состоящую из диагоналей: линия идет от инструмента к инструменту; партия же рояля расцветает из этих скупых нот. Я полюбила эго сочинение и согласна с определением одного композитора, назвавшего Концерт И.Жванецкой: “Письмо самой себе“.
— Кажется, что из классики Вы отдаете предпочтение малоизвестному. Почему?
— По нескольким причинам. Фортепианный репертуар — целый океан, а большинством пианистов любимы прибрежные воды. Некий шлягерный набор — обширный, гениальный, но набор. В этом плане исключение составляют репертуары таких прекрасных музыкантов, как А.Любимов, Н.Петров, некоторых других… Есть и еще причина: недостаточная моя самоуверенность (в хорошем смысле).
необходимая для исполнения очень популярного. Как бы не чувствую в себе силы сбросить гору традиций и штампов и представить свою, новую, но в рамках стиля трактовку заигранного шедевра.
— Это уже другая проблема. И на взгляд со стороны, Вам как композитору и музыканту вообще, все художественные поры которого открыты творчеству, стоит дерзать. Очень любопытен здесь опять же опыт Алексея Любимова, правда лишь частично Вашего коллеги. Недавно я была на его концерте с шопеновской программой. Помню время, когда Леша отвергал Шопена напрочь. Но интересно, что сейчас он не просто вернулся к этому автору, а вернулся как музыкант, прошедший, с одной стороны, школу авангарда — так слышать паузу, так делать rubato может только прошедший через данный опыт человек; с другой стороны, в его игре чувствуется и преданность старинной музыке — он играет Шопена, словно артикулируя его как Баха (имеются в виду баховские риторические фигуры). То есть, видимо, для исполнителя должно быть очень соблазнительно услышать и передать по-новому давно знакомое и привычное.
— Кто знает, может быть, мне еще предстоит пройти через эти “соблазны”?
— Кто-нибудь играет Вашу музыку с участием клавишных инструментов, кроме Вас?
— Да, играют. Я рада, что без прослушивания записи, ориентируясь только на нотный текст, музыканты в других городах и странах исполняют так, как я бы того хотела (сужу по присланным записям). Например, американский органист Дональд Джойс сыграл все мои сочинения, в которых есть орган. Кстати, он и сам композитор. Немецкий виолончелист Раймунд Корупп сыграл все для виолончели, находя себе прекрасных партнеров, органистов и пианистов.
Конечно, приятно, когда находятся “свои“ исполнители и для музыки без использования клавишных, которой у меня довольно много (например, концерты для контрабаса и струнных, для тромбона с оркестром, Симфония, струнное трио).
— Какие ансамбли с другими исполнителями кажутся Вам наиболее плодотворными?
[23]
— Сотрудничество с замечательными музыкантами Владимиром Тонха и Владиславом Иголинским. И еще наш семейный тромбонно-клавишный дуэт с Иваном Вихаревым.
— Существует ли для Вас понятие судьбы поколения и причисляете ли Вы себя к какому-либо поколению по каким-нибудь определенным признакам или Вы не думаете об этом?
— Понятие поколения, безусловно, существует, но для меня скорее формально. Внутри сообщества людей, относящихся по возрасту к одному поколению, такая большая разница.
— Я заговорила об этом потому, что композиторов, близких между собой по возрасту, таких, как Шнитке, Слонимский, Сильвестров, Мансурян, Пярт, Губайдулина, связывало некое духовное родство, хотя сейчас они в достаточной мере разойтись и у каждого своя судьба. Может быть, конечно, их объединяла больше всего социальная отторженность. В какой-то мере, как ни странно, это было во благо, так как они могли тихо сидеть и сочинять музыку, никто ничего им не диктовал. Люди, пришедшие за ними, находились больше под общественным прицелом. И, может быть, внутренне были менее свободны.
— Я не чувствовала на себе “общественного прицела”. По-моему, весьма преувеличена как отторженность одних, так и зависимость других. Каждый может тихо сидеть и сочинять музыку. Каждый, кто хочет. Меня удивляют фразы в некоторых музыковедческих публикациях: “Имярек пишет музыку, никогда не покривив душой” и т.п. Создается впечатление, что это — прекрасное исключение, тогда как основное занятие композитора — кривить душой. Кривить талантом, что ли? “Подделывающиеся», тенденциозные (неважно, с каким знаком тенденция) композиторы — явление крайне редкое, заметное издалека и малоинтересное. Так что, мне кажется, что внутренняя зависимость — скорее свойство натуры, чем роковая необходимость.
— Как Вы видите будущее музыки — в исполнительстве и в творчестве — пусть ближайшее. Потому что есть разные суждения. Одно из них, что полистиль будет всячески расширяться и углубляться. Другая тенденция, которая тоже просматривается, противоположна: музыка будет стремиться освободиться
_ от всех смежных воздействий и выявить специфику наибольшим образом. Мне кажется, что углубляться будет именно полярность.
— Наверное, да, с преобладанием второй тенденции. Хотя, как в латинской пословице, “Все уже было, только форма выдает мастера”…
— А что для Вас XVIII век? Судя по Вашим и музыке, и живописи, и поэзии, он прочно “поселился” в Вашем художественном воображении?
— Хотелось бы сказать: “Это был век гармонии”, но гармоничного времени, золотого века, думается, в нашей стране не было. Поэзия XVIII века — моя слабость. Поэзия поиска совершенства формы, поэзия, которая боится быть недопонятой (отсюда подробная досказанность, “втолковывание“, тяжесть и трогательность), поэзия советов: во многих стихотворениях даются бесценные жизненные советы. Например, как вести корабль:
Плюнь на суку
Морску скуку
Держись черней, а знай штуку:
Стань отишно
И не пышно
Так и волн не будет слышно.
Или, вот, в какое время жизни лучше любить:
Не трать, красавица, ты времени напрасно,
Любися! без любви всё в свете суеты
Любися в младости, покуда сердце страстно
и т.д.
А если это слишком деликатно и недостаточно убедительно, то в конце сонета приводится аргумент — такой безжалостный и тяжелый — отчего стих становится трудным. как пересеченная местность:
Взгляни, когда, взгляни на розовый цветок.
Тогда, когда уже завял ея листок.
И красота твоя, подобно ей, завянет.
У меня есть письмовник XVIII века из библиотеки моего деда — историка. Как писать письма: “благодарственныя, сочувственныя, сердце открывающия, рекомендательныя, совет подающия (совет приятелю, чтобы женился, совет приятелю, чтобы не женился — одинаково страстно убеждающие), о вреде пианства и т.д. Одно время я писала таким слогом письма, вызывая умиление или раздражение адресатов. В этом же стиле сочиняю стишки. Еще доставляет большую радость портретная живопись XVIII века. В ней
— самоограничение художника (никогда:“я так вижу“ — модель превыше автора). У художников, называемых искусствоведами “художниками второго ряда”, при некотором несовершенстве техники есть изумительная передача взгляда портретируемого: обобщенный, который рассказывает о всей жизни, и мгновенный — смотрит тебе в глаза и рассказывает только тебе. И если долго смотреть, начинаешь слышать голос, связь времен как бы материализуется. Читаем:“Неизвестный художник. Портрет неизвестной”. А через год-другой, глядишь, уже расшифровали ученые-реставраторы одно или оба неизвестных.
— Что Вам как музыканту дают занятия живописью и поэзией?
— Я отношусь к этому несерьезно как к результату и очень серьезно как к процессу. (“Не по промыслу, а по склонности”, как говорит Даль о дилетантах). Летом встаю на рассвете, ловлю солнце, переделываю, соскабливаю, добавляю, пребывая подолгу в творческом экстазе. Так же и со стихами: оттачиваю рифмы, стараюсь… хотя это все смешно звучит. Это дает полнейшее переключение, “подзарядку“ и море удовольствий.
АПОЛЛОНУ
Не увядания, о нет —
Золы страшусь, покрывшей сердце.
Утратив кварт волшебный свет
И тайну суть отрадных терций —
Кто буду я? — Предмет безгласный.
Не дай, державный Аполлон,
В большой волнению угаснуть Груди!
Бог Аполлон, прекрасный!
Жизнь без тебя — докучный сон.
Беседу вела М.Нестьева
Опубл.: Музыкальная академия. 1993. № 2. С. 20-23.
- Размещено: 11.03.2016
- Автор: Сергеева Т.
- Ключевые слова: современная российская музыка, композиторы-женщины, Сергеева
- Размер: 29.22 Kb
- © Сергеева Т.
- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)
Копирование материала – только с разрешения редакции
